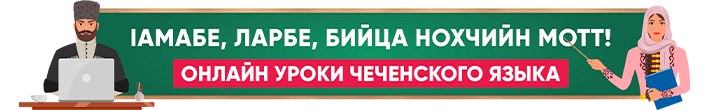А наши гости тем временем продолжали напевать, раскачиваясь из стороны в сторону.
Как только мама сообщила, что ждет гостей, они тут же прекратили напевать, и со словами: «А, гости? Мы закончили… вставайте… Пусть этому дому всегда будет сопутствовать удача… Пусть, пока существует этот мир, вы не узнаете нужды… Пусть Аллах благословит пожертвованные вами деньги… Пусть воздастся за вашу щедрость и вашему дому, и вашей семье… Вот амулеты… сами изготовили», — они протянули маме несколько амулетов и быстро встали.
«Ох, уж эти попрошайки, — сказала мама, когда за ними закрылась дверь. — Явились сюда в своих грязных лохмотьях, грязные твари! Спрячь-ка эти амулеты туда же, где и остальные».
Амулетов в шкатулке было много — несколько пригоршней. К ним я добавила новые.
Джабраил, я тебе не все рассказываю, что происходит в этой республике. Все твои представления об окружающем далеки от действительности. Тебе этого и не нужно знать. Я тебе не рассказываю о том, что предпринимали те къонахой (6), о которых ты с таким упоением говоришь, чтобы устроиться на работу или остаться на этой работе, кто с кем встречался или кто с кем-то, отправлялся отдыхать… Об этом ты сам можешь узнать, если захочешь, правда, тебе, Джабраил, незачем это знать.
Когда вы сидели на экзаменах, пытаясь списывать с купленных на скудные студенческие деньги шпаргалок, потели и вздрагивали при каждом неудачном движении, я сидела среди вас и рисовала розы.
Ты помнишь, некоторые преподаватели прохаживались между нашими столами? Я говорю о вступительных экзаменах.
Одна из них остановилась около моего стола.
Я даже не подняла голову — я рисовала розы.
«Как красиво! — сказала она. — Ты училась графике?»
«Нет», — сказала я, продолжая рисовать.
«У тебя получается, молодец! Сдашь чистый листок», она ушла, отобрав на ходу несколько шпаргалок.
Я эти экзамены «сдала» у себя дома: они сами их написали и принесли ко мне домой.
«Перепиши своим почерком, я с мамой посижу», — говорила каждая из приходивших к нам преподавательниц.
Я переписывала, пока они сидели с мамой.
Джабраил, я рассказываю тебе обо всем этом, чтобы ты понял: у меня другая жизнь. И еще — и это правда! — потому что я люблю тебя… Я на чем угодно могу поклясться, что на всем белом свете нет человека, любимого мной больше тебя.
«Живут с красавцами, но любят уродов», — ты помнишь эти свои слова? Джабраил, ты не был уродом. На всей земле не было лучше и красивей парня. Ты был моей душой,
Джабраил, ТЫ был моим сердцем, моей Вселенной и моим загробным миром. Благодаря таким, как ты, Джабраил, еще существует эта земля не разрушаясь… Вас было так мало… вернее, ты был один И больше не было никого. Ты не знаешь, Джабраил, что творилось в моей душе на протяжении этих долгих четырех лет. Я каждый день крепилась, я наряжалась для тебя, я пыталась улыбаться, я каждый раз боялась посеять в тебе даже малейшее сомнение…
Если бы ты знал людей, если бы ты знал эту жизнь… Был бы ты хоть немного другим, кем-то хорошо обожженным, чтобы ты мог потягаться с ними на их пути, чтобы ты мог их переспорить.. . Была бы с тобой их неправда, чтобы сделать ее своим убеждением, а потом наступить им на горло…
Ты не сможешь быть таким, ты нежный, чистый, с тобой нет ни малейшего коварства…
Для тебя все люди хороши… Ты словно боишься себя, боишься, что тебя узнают окружающие, что кто-то ненароком подсмотрит и узнает эти твои слабости… Кроме меня, ты никому не сказал слов: «Я люблю тебя», после года, двух лет, когда я не отстала от тебя, ты сказал: «Не издевайся надо мной, девушка… С тех пор, как я увидел тебя, я старался избегать тебя, хотя сердце со мной и не соглашалось».
Сейчас ты и не знаешь, что мне пришлось испытать. Все, что я тебе рассказываю, срослось с моей плотью, слилось с душой, я видела этих людей такими (стоящими на коленях), я не знала другой жизни, у меня не было другой жизни, кроме этой, у меня не было той жизни, которую я хочу… Я хорошо знала этих людей, ненавидела их и смеялась над ними… Я не смогу так жить, смотреть на них снизу вверх, потому что я когда-то смотрела сверху вниз… Как я справлюсь с их злорадством, когда начну жить с тобой в селе?.. Ты ведь ничего не знаешь…
Когда я была на четвертом курсе, папа сообщил мне об одном сватовстве и предложил выйти замуж. «Папа, — сказала я тогда, — папа, ему будет больно, дай мне закончить, потом…»
Папа на меня разозлился. «Я второго позора не потерплю!» — крикнул он и призвал на помощь маму.
Открыв окно, я встала на стул: «Я прыгну в окно, если не дашь закончить, подожди два года, — сказала я, рыдая, — ему будет трудно, я не хочу его так унизить».
«Ты его любишь?» — спросил меня папа.
«И люблю, и жалею», — ответила я.
«Что сильнее?»
«Жалость», — сказала я.
Джабраил, я так тебя берегла все эти долгих четыре года — я не говорю о первом курсе — я знала, что мы с тобой расстанемся, я по-настоящему плакала, когда ты шутил… Я другая, Джабраил, я теперь другая… Мы прожили бы вместе месяц — что может быть выше этого? Или три месяца, полгода… Что я буду делать дальше? Я ведь не смогу жить так… Ты ведь тоже ничего не ставишь выше себя, и не нужна тебе помощь ни от кого… Я не смогу, Джабраил, я не смогу жить в бедности…
Когда я тебе однажды намекнула, что папа для нас все сделает: работу, квартиру — помнишь, как ты целый месяц заставлял меня плакать, ты требовал, чтобы я отстала от тебя, ты злился, когда я попадалась тебе на глаза…
«Больше не говори так, — сказал ты мне тогда, — чтоб это было в последний раз!» Я ничего такого больше и не говорила.
Когда ты получил гонорар за какое-то стихотворение (ты помнишь, это были тринадцать рублей?) — мы с тобой пошли в, кафе…
У меня в кармане было тринадцать и столько же, умноженное на тысячу, но я не посмела сказать тебе об этом, не посмела ни показать эти деньги, ни купить на них что-то в твоем присутствии…
Я знаю, я буду умирать мучительно и долго,
И смерть моя ничем тебя не удивит..,
так начиналось то стихотворение.
Мы сидели в кафе, купив на твой гонорар цветы и пирожные.
Была пора, мой август цвел,
И получал я гонорары…
— произнеся эти слова, ты поднял палец, и тогда мыс тобой долго смеялись.
Ты смеялся, радуясь мне, а я смеялась и радовалась, зная, что тебе в эти минуты очень хорошо.
Я с собой каждый день носила деньги, много денег, пытаясь найти хоть какой-то повод отдать их тебе.
Джабраил, я ведь знаю, и ты знаешь, что у меня никого нет, кроме тебя, и не будет никогда.
Я не смогу жить другой жизнью, Джабраил, став хуже тех, кого знала и знаю, ловя их кривые ухмылки, став для них посмешищем.. . И ты не пойдешь мне навстречу…
Ты ведь ничего не знаешь, Джабраил, ты ничего не знаешь… Тебе проще жить так, как ты живешь сейчас, представлять, что вокруг тебя настоящие мужчины, боготворить свой народ, мечтать о славе Байрона, превозносить роль своих стихов. Но я-то знаю, что это не так, далеко не так, я знаю, что, кроме денег, у людей нет другого кумира, что они почитают только того, кто их имеет, любят и чтят только денежного человека.
Ты видел, как крутятся люди вокруг денежного человека, растянув губы в угодливой улыбке, заикаясь, словно малые дети? И это притом, что они прекрасно знают, что ждать им от этого человека нечего.
Я не посмела бы рассказать тебе об этом, будь ты сейчас передо мной…
Мой Джабраил, ты ведь мой, верно же? Скажи: «Да», скажи хотя бы раз, скажи самому себе… Я никогда в жизни не забуду время, проведенное нами вместе… Я всегда, когда мне станет плохо, буду звать тебя, и тогда ты придешь ко мне во сне: «Что с тобой случилось, Глаза Косули?» — скажешь ты, чтобы помочь и успокоить меня… Ты ведь придешь, Джабраил?
Мне очень нравится называть тебя по имени, произносить Джабраил, я никому не чувствую себя так обязанной, как тебе -это ты дал мне почувствовать, что такое любовь, мой любимый, мой дорогой, мой единственный Джабраил…
Джабраил, это я отправила тебя в Ножай-Юрт, договорившись с Лолитой: мне было трудно видеть тебя здесь каждый день… Я боялась сделать тебе больно, я пыталась оградить тебя, прекрасно сознавая, что никогда не смогу высказать тебе все это в лицо, как это делаю сейчас на бумаге…
Ты ведь не расстроишься, верно, Джабраил, ты ведь выдержишь, ты никогда не опустишься до того, чтобы обидеться… Моя душа всегда будет с тобой, опутывая твою душу…
Ты не выбросишь фотографию, которую я тебе подарила, ведь не выбросишь же,
Джабраил?.. У меня очень много твоих вещей, у меня есть твои фотографии, черновики твоих стихов, помнишь, ты оставил мне их, наказав после смерти (в шутку) продать их за миллион долларов. Помнишь осенний лист, который ты мне подарил в парке… он тоже у меня, еще у меня остался купленный тобой маленький детский пистолет…
Джабраил, твой перстень у меня: я заметила, как ты его передал цветочнице. Я знала, что у тебя нет денег… Я выкупила перстень после твоего отъезда в Ножай-Юрт… Ты его оставишь у меня, Джабраил, оставишь ведь, да?.. Пока живу, я буду считать, что ты его мне сам передал в знак нашей любви, Джабраил, когда мы увидимся… Когда мы когда-нибудь увидимся, мы ведь обнимемся с тобой, как брат и сестра? Это будет позволено, к тому времени это будет позволено… Мой Джабраил, мой… мой… Мне многое хочется тебе рассказать, но я не в силах это сделать… Мне мешают слезы, ты стоишь у меня перед глазами… Ты простишь меня, простишь же… На каком языке попросить тебя сказать мне «прости»? Sorry, on all the languages of the world (7)… Хочу попросить тебя… Я очень виновата… Я перед тобой очень виновата…
Это письмо я начала грубо… чтобы тебе было легче… Потом не выдержала, распустила нюни… Все вдруг выплеснулось наружу… У меня больше нет сил, мне ведь очень трудно… Ты ведь парень… Ты настоящий мужчина… Прости… прости меня… Я не могу дальше писать… эти слова… Я ведь вижу тебя… я вижу, что с тобой происходит… как ты стоишь… как смотришь… как ты смеешься, продолжительно смеешься… Ты ведь будешь смеяться… ты ведь не расстроишься… не расстраивайся, ладно? Вот так лучше… если ты не расстроишься, если ты улыбнешься, если это тебя не заденет, если ты воспримешь это с равнодушием… Я никто… я ничего из себя не представляю, чтобы ты расстраивался… Ты ведь хороший, ты будешь стойким, ты ведь князь, ты мой повелитель, мой единственный повелитель. Твоя Малика, твой чертенок, твои Глаза Косули…
2 декабря 1986 г.».
«О чем она болтает?! — воскликнул я, вскакивая. — Она, что, собралась умирать, это что за «прости», это что за «отпущение грехов», клянусь, я швырну тебя за семь горных хребтов, негодница!»
Я еще раз прочел письмо.
Потом снова.
«Эскиев, — сказал я себе, — Эскиев, ты слышал этот разговор, эти придирки, эти насмешки!? Пусть ты останешься здесь сидеть, если ты эту девушку, вернее, эту пустышку, не заставишь плакать горькими слезами… Отец… может, отец там затеял что-то.. . может, он донимает ее упреками… Завтра же поеду туда… скажу… ну-ка, послушай меня, ты, министр… нет-нет, сначала надо увидеть Малику… потом…»
Когда, оставив свои предположения, пристальнее присмотрелся к письму, я понял, о чем речь: со мной прощались, мне давали знать, что разговор окончен.
«Нет-нет, — сказал я снова, — нет, этого не может быть и не будет до тех пор, пока я не приеду туда… Такие шутки, милая девушка, со мной не пройдут! Сначала, словно сокола, заманить меня в силки, а потом в разгаре зимы выпустить с наказом найти пропитание… Нет, девушка, ничего не выйдет у тебя из этой затеи!»
Комната стала для меня тесной, мне не хватало пространства.
Стул с грохотом упал, стол начал ходить ходуном…
— Что-то случилось? — скрипнула дверь. — Все в порядке?
— Нет, нет, ничего не случилось, — произнес я быстро, — ничего не случилось,
Седа… будь спокойна…
Ее головка исчезла из дверного проема.
«Нет!… Как… Было бы это днем, а не ночью… Ни одной машины… Даже трактора не
будет… Хотя бы до райцентра… Если пешком… Эх, Эскиев, какая неразбериха…
Какая большая неразбериха…»
В соседней комнате шептались: старуха о чем-то говорила, Седа ее убеждала, что это не так.
Через час, а может, через два я еще раз прочел письмо, не торопясь, как раньше, исследуя каждое слово, каждый знак препинания.
Вспомнил подаренную мне фотографию: «Ты не выбросишь ее… Ты мне ее покажешь, когда мы с тобой когда-нибудь встретимся?»
«Когда-нибудь встретимся, когда-нибудь…»
Я оставался на стуле. Было ощущение, что я могу видеть, я могу слышать, но плоти моей не было… Как будто никогда и не было. Я не ощущал своей плоти… Потом я увидел свое сердце, оно билось, как у барсука, попавшего в капкан. Оно оглушительно билось, оно словно дышало прерывисто, останавливалось и снова терзало мне грудь.
Потом начинали пульсировать мозги, было больно, словно их кто-то безжалостный зажал в кулаке и стискивал, стискивал…
Вены на висках пульсировали, словно клубок змей, каждое их движение отдавалось в голове нестерпимой болью.
«Нет-нет, — сказал я, — нет, нет!» — видимо, я произнес это. слишком громко: дверь снова скрипнула.
— Что, Джабраил, что… с тобой?..
— Очень… очень болит голова… попроси у бабушки таблетку…
Их было несколько, этих таблеток — красная, синяя, белая…
Я все выпил.
Остановилась рядом, бросила взгляд на мой стол сзади, из-за моей спины. На столе была фотография девушки, здесь же лежало письмо, написанное девушкой с фото.
— Вот так вот, — сказал я, — такова она, эта жизнь, Седа. Се la vie (8).
Девушка заметалась, как порыв ветра, словно дикий олененок, опрометью выскочила за дверь.
Мои веки отяжелели, под ними зашевелились обрывки снов: день сменяла ночь, потом виделась весна… потом бескрайнее поле…
Ночь была длинная, как сама жизнь, и рассвет не наступал. Помню, как, опрокидываясь на кровать, разорвал фотографию.
Как я дрался, как я со всеми дрался, я бежал вместе с Мали-кой, а за нами бежали собаки.
«Джабраил, Джабраил!» — звал кто-то. Я давно слышал этот зов.
— А? — проснулся я. Кто-то укрыл меня одеялом, не моим, а каким-то другим, и лампу кто-то потушил.
— Джабраил! — услышал я слабый голос старушки.
— Сейчас подойду, — крикнул я.
Фотография лежала на столе, ее куски аккуратно были сложены, тут же находилось и письмо — кто-то аккуратно распрямил его и положил на стол рядом с фотографией.
— Ты не пошел на работу? — спросила старушка из соседней комнаты.
— Сейчас пойду, — ответил я, — умоюсь сначала…
Я снова увидел письмо, услышал голос, увидел очертания лица… Это наваждение не покидало меня.
— Время довольно позднее… Я сходила на кладбище, потом зашла к дочери, совершила обеденный намаз…
— Как обеденный намаз?
— Сейчас послеобеденное время… время захода солнца, дни совсем короткие — только ишаку воды напиться…
Я кинулся собирать сумку, потом быстро выскочил из дома.
Бросился в сторону школы.
Детей из моего класса не было видно.
— Парень, ты где пропал?! — закричал директор. — Дети с самого утра… дважды уже к тебе приходили… они лошадь приготовили, чтобы отправиться в лес…
— Я ухожу…. У меня нет времени…
— Куда ты уходишь? Что это за разговоры…
— Вот такой вот разговор…
— В середине учебного года… я два года провел без учителя…
— Даже если десять лет не было…
— Да пусть я буду проклят, если позволю тебе уйти, сначала поеду в район…
— Я уезжаю, и меня никто не остановит!
— Я прошу тебя, Джабраил, не говори так…
— И тем не менее это так…
— Отпуск… я дам тебе отпуск, больничный… на один месяц… на два…
— Не нужен мне никакой отпуск…
— О чем ты говоришь, ты в своем уме?..
— Очень даже в своем…
— Клянусь могилой отца, я в министерстве… попрошу лишить тебя диплома…
— Оставь этот диплом себе!
— Я в просвещение… в Москву… ты же меня подводишь, и детей, и ме…
— Я никого не подвожу, прощай…
— Во имя моей жизни, Джабраил!
— Остопируллах, не надо клятв… Пусть в чреве того, кто желает твоей смерти, ежиха разродится, — я захлопнул за собой дверь.
Увидел Зулай, математичку:
— Зулай Саидовна, я должен уехать… отсюда, моим детям: Альви, Мусе, Лече, Кулсам,
Хеде не ставь тройки, они…
— Ты почему… что-то случилось…
— Нет, ничего… работу, я нашел работу…
— Какой ты счастливый! Ты можешь вырваться из этой глуши…
— Вы поняли меня? Им тройки не…
— Между прочим, твоя Кулсам мне сегодня нагрубила…
Целый день во дворе. Я прошу ее зайти в класс, а она мне: «Я жду Джабраила».
— Она хорошая девочка, Зулай Саидовна…
— Конечно, хорошая девочка! Молодой преподаватель, и глазки открылись…
— Не надо… так… она же еще ребенок …
— Ладно, ладно! Хорошо, но только из-за уважения…
На улице шел снег. Трудно было понять, день это или уже вечер…
Мне было все равно, день сейчас или ночь, главное — уехать отсюда
— Как ты можешь уехать, может, дома что-то… сообщение…
— Ничего не случилось, бабушка, кроме того, что мысли мои одичали, — ответил я, улыбнувшись или попытавшись улыбнуться.
— Сейчас вечер… машины не… и автобус, если нет людей…
— Найду что-нибудь, бабушка, не беспокойся…
Я принялся собирать вещи. Их было много, столь много, что значительную часть пришлось оставить.
Я отложил две рубашки, томик Лермонтова и поэму оставил, поэму, которая называлась
«Дикое сердце».
Обнял бабушку, протянул ей сторублевую бумажку.
— Подожди, подожди… Дай мне взять ведро… Я поставлю ведро с водой…
Присядь-ка.
Я сел.
Старушка что-то бормотала себе под нос, шевеля пальцами.
— Ну вот, отправляйся теперь, пусть с тобой будут Всевышний, Его пророк и ангелы, — произнесла старушка, останавливаясь в стороне.
Когда я, еще раз обняв ее, вышел на дорогу, уже темнело.
Шел снег, его и так было много.
Я быстро миновал село, оставив его далеко внизу.
Село располагалось таким образом, что его можно было охватить взглядом там, внизу.
Дорога поднималась от села.
И автобусная остановка была там же.
На остановке было безлюдно, можно с уверенностью предположить, что в скором времени никого и не будет.
Сама остановка состояла из четырех бревен, нескольких досок и покрыта несколькими кусками шифера. Одна из досок была скособочена и держалась на одном, среднем гвозде. Здесь же, на бревне, из круглого ржавого ободка торчала лампочка, со скрипом раскачиваясь в такт порывам ветра.
Шел снег. Снег валил крупными хлопьями. Снег блестел и искрился. Он словно играл с лампочкой или со светом от лампочки, ему в этом помогали порывы ветра.
Я часто-часто поднимался на пригорок, чтобы глянуть в сторону села в надежде увидеть там машину.
Машины не было, я видел село, которое сейчас выглядело необычно округлым. В окнах домов застыл желтый свет.
Я увидел дом, в котором жил, потом… потом Седу… «и Седу я больше не увижу… куда же она… может, убежала… ведь она всегда убегала, когда было тяжело… когда ей становилось обидно… Почему ей… почему ей тяжело?..»
Я снова спускался к остановке, чтобы присматривать за дорогой.
От моих хождений оставались следы, словно здесь ходили всем селом… С Маликой…
Как с ней… Ох, чертенок…
Ни одной машины не было видно, не было ни автобуса, даже трактора не было.
Было пять часов, потом — шесть.
Когда пошел седьмой час, мне в голову пришла мысль двинуться в путь пешком, пройти
двадцать километров пути.
Если идти хорошим шагом, я смогу пройти этот путь за пять часов или за шесть, таким образом, можно до полуночи дойти до Ножай-Юрта — он недалеко… А там можно взять такси, попросить кого-нибудь…
Я подвернул брючины, поднял воротник, и когда повернулся, чтобы в последний раз бросить взгляд в сторону села, обратил внимание на луч света, блуждающий, словно посох слепого, по дороге.
Сердце мое учащенно забилось, словно я оказался рядом с Маликой.
Дыхание теснило грудь.
Воздуха не хватало.
Автобус сделал круг, притормозил, чтобы отправиться дальше, вниз.
Внутри никого не было видно — одна темнота. Я направился к автобусу, приблизился к двери. Они открылись, прошло некоторое время, я никого не видел, потом на ступеньке автобуса вдруг появилась Седа.
— Седа, ты… ты как… Я уезжаю… до свидания… больше не…
Она медленно сошла со ступенек автобуса, не сводя с меня глаз, глядя мне прямо в лицо.
Когда я, отвернувшись, сделал шаг в сторону автобуса:
— Она вышла замуж… — мне в спину, прямо мне в спину чем-то острым и холодным, пронзив мое сердце и легкие, перехватив дыхание, очень холодным… холодным, как лед…
— Как… замуж… за кого… замуж… — повернувшись, застыв на месте, с помутневшим зрением, ослепнув…
Потом просигналил автобус, раз, два раза, третий раз, словно всю жизнь сигналил…
— За Руслана… Уже пять дней…
— Как… как за него… когда… как пять дней… за меня…
Посмотрела — с ухмылкой, с гордыней, с обидой — с потайной, спрятанной далеко в сердце. Она взглянула исподлобья, как бы издеваясь, веки полуопущены, зубы слегка видны, рот приоткрыт.
— Парень, ты едешь или нет?! — двери громко захлопнулись.
Автобус уехал, подняв за собой снежную пыль.
Девушка посмотрела на меня, потом отвернулась, медленно отвернулась.
Я увидел спину, волосы, чье-то движение, ускользающее, уходящее движение…
Я и себя увидел стоящим, наблюдающим, наблюдающим за уходящим человеком…
Со скрипом болталась на столбе лампочка в ржавом ободке, летели снежинки, словно мотыльки, падая, кружась, сплетаясь в нескончаемый рой.
Она остановилась вдалеке, не поворачиваясь ко мне, словно прислушиваясь к шороху, словно присматриваясь к этому шороху.
Повернулась одними плечами, наклонив голову.
Потом развернулась вся, прямо ко мне, всем телом.
Стояла тихо, глядя на меня.
Я тоже взглянул на нее.
Падали белые снежинки.
И свет лампы был белым…
Вся земля была белой вместе с моей душой, вместе с моими мыслями.
Время остановилось, оборвалось течение времени; снежинки застыли, словно застывший в воздухе образ.
Через год, через годы, через пять лет, семнадцать лет снег так же кружил, мелькая, словно мотыльки.
Девушка медленно пошла вниз, ко мне, в мою сторону, не сводя с меня глаз, глядя прямо в глаза, наблюдая за моим взглядом.
Через сотни дней, через сотни, тысячи лет настигла бесконечность, неся с собой глаза, полные слез, обжигая взглядом, с пульсирующей белой веной на шее, с белым дыханием, белым изнутри.
Подошла, остановилась, робея.
Слезам было тесно, они, падая, таяли.
Прикусила губу, нижнюю губу, белыми зубами алую губу.
— Пойдем… пойдем отсюда… — протянула издалека руку, левую руку, к моей руке, к моей сумке, которую я держал в руках.
Схватила ручку сумки. Отвернулась, держа в руках сумку.
Сделала шаг, затем другой, пять-шесть шагов, потом еще несколько.
Увидел следы, удалявшиеся следы, рыжие волосы на спине, на них белые мотыльки, взмахивающие белыми крыльями.
Я ступал на ее следы, двигаясь с ней след в след — это были одни следы двух людей или одна тоска двух сердец.
— Иди помедленней… — мой шепот, мое дыхание, моя мольба.
— Как еще… как еще медленней… — посмотрела в мою сторону долгим взглядом, словно переворачивая Вселенную, из далекого далека, из глубины своего сердца, из глубины своих лет…
Я увидел ее лицо, ее глаза, увидел снежинки, запутавшиеся в ее ресницах, словно невзначай приподнятую губу, словно у ребенка, улыбающегося во сне… Потом слеза, одна слезинка, из таких бездонных глаз, такая горячая, счастливая слеза… А там, внизу, под снегом, лежит белое село, в окнах застыл желтый свет, гавканье собак, тишина… Снова-ночь, серебряная ночь, готовая взорваться, глухая тишина, и девушка, чья-то дочь, рядом, стоит совсем рядом, ее прерывистое дыхание, от которого тает мерзлота, просачиваются воды, из земли появляются побеги, появляются лепестки трав, цветы, яркое весеннее цветение…
— Я… я тебя… — промолвила, потом вскрик, безудержное рыдание… — Я тебя… я тебя люблю… только для себя одной… для себя только… — присела, согнулась, надломилась там, где стояла…
Эх, жизнь, жизнь! Чего только от тебя не ждешь! Сколько в тебе неожиданного! Вот и теперь чуть не утаила от меня и эту ночь, и слезы эти, и эти снежинки, и следы на снегу… Вернуть бы на миг, на один только миг, всего на миг, чтобы раз увидеть, увидеть раз, чтобы один раз прокричать, забыться, чтобы оставить и эту жизнь, чтобы еще раз с ней… Какая тяжелая ночь, какая тяжелая… Мои годы… твои слезы… снова голос, какие-то голоса: «Sorry on all the languages of the world…» — почему, почему мне… этой ночью: «Я… я тебя… я тебя люблю… только для себя одной… для себя только…» — этой ночью… именно этой ночью… этой серебряной ночью?!
Р.S.
— Я тогда, когда увидела тебя, я тогда умирала, не смея ничего тебе сказать… до утра, ночью… помнишь, как…
— Помню, ягненок, помню, я все помню, я помню твою зеленую кофту, твои волосы колечками, твой белый зуб с отломанным краешком, левое крыло твоего носа, на который упала черная… родинка… эта родинка… где она?…
— Я ее удалила! Все поняли бы, что ты пишешь о нас с тобой.. . Я хочу, чтобы ты был только моим, я не хочу ни с кем тебя делить…
— Какая ты жадная…
-Я такая!
— Дакъа дижа хьан (9).
— Пусть так! Тогда с тобой не будет твоего ягненочка…
Эх, какая же это была ночь. Безвременье какое-то! Огонь, устремившийся из ада, и реально увиденный рай одновременно… Как хотелось бы, чтобы вернулась, хотя бы на миг вернулась, чтобы на короткий миг окинуть взглядом… Эх, куда же сгинул этот миг, и твои слезы, и ясная ночь, и моя душа… «Прости меня, прости…» Эх, не надо, не вороши… что прошло — сгинуло…
Быть готовым к лишениям —
Это тоже дар свыше.
«Доброго пути тебе!» — сказав,
Сумел проводить уходящее?
Да, это так… Может быть, именно так… Оставь это таким, оставь таким…
Подстрочный перевод Т. Чагаевой, литературная обработка М. Эльдиева
1 Из стихотворения Л. Абдулаева.
2 Хьенех — кое-кто, некто.
3 Из стихотворения Л. Абдулаева.
4 Из стихотворения Мусы Ахмадова.
5 Ламаро — горные чеченцы.
6 Къонах — достойный мужчина.
7 Sorry on all the languages of the world (англ.) — Прости на всех языках мира.
8 Такова жизнь! (фр.)
9 Непереводимая идиома, выражающая ласку.