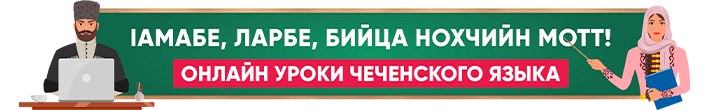Восемь часов вечера. Шестидесятилетний старик Гудайберд, пользующийся славой самого большого скупца и жадины в селе, достает из кармана ручку, раскладывает перед собой двойной листок ученической тетради и собирается писать письмо сыну, работающему по договору в Сибири…..
Бадруддин Горчханов
Восемь часов вечера. Шестидесятилетний старик Гудайберд, пользующийся славой самого большого скупца и жадины в селе, достает из кармана ручку, раскладывает перед собой двойной листок ученической тетради и собирается писать письмо сыну, работающему по договору в Сибири.
Старый Гудайберд кончил когда-то всего четыре класса сельской школы, но грамотных людей уважает. Поэтому и теперь, в старости, в нагрудном кармане кавказской рубахи-гимнастерки вместе с четками он всегда носит ручку и записную книжку. Впрочем, тому есть и еще одна причина.
В минуты вынужденного безделья, когда и скотина накормлена и вечерний намаз совершен, Гудайберд достает из кармана ручку, находит откуда-нибудь клочок бумаги, и, состроив на худосочном лице значительную мину, начинает писать. Сочинения Гудайберда начинаются всегда так:
Дирехтару совхоза Кавказски
Махтамиеву Аббасу
Заявлени
Парашу вас дат мине отпуска с вязи с тем…
На этом месте сочинение Гудайберда заканчивается. Писать продолжение не хватает писательского дарования. Зажав нос седельком древних пенсне, оставшихся Гудайберду от покойного дяди — бывшего директора первой советской школы в селе — Гудайберд за раз исписывает три-четыре листка бумаги подобными заявлениями. Особенно тщательно Гудайберд подписывается под заявлениями. Он ставит под ними имя, фамилию и выделывает хлесткую закорючку. Собственно, все заявление и пишется только ради фамилии и этой закорючки, которая старику удается особенно хорошо. Это сообщает старику дополнительный вес и возвышает его в собственных глазах.
После вечернего намаза, Гудайберд написал уже несколько таких заявлений. Шестой раз выделывает он закорючку и вдруг вспоминает, что не ответил на вчерашнее письмо, полученное от сына. Гудайберд встает из-за стола, берет из ящика старого комода двухкопеечную тетрадь и усаживается. Он тщательно, обеими руками поправляет на носу пенсне и начинает писать:
«Здараствуй многоуважаемый любимый сын мой, Даримсултан! Джигит наш! Получили мы от тебя письмо. Сын мой, Даримсултан! Знаешь ты! Я очень обрадовался. Я узнал, что ты купил машину. И ты заработал много денег, возвращаешься. Сыновья Морхажа тоже купили машину. Тоже людьми стали. А ведь помню я, как мать Морхажа, длинная Эши, кормила сыновей своих жареными кукурузными зернышками. Помню я их двор, где даже плетня вокруг не было. Помню землянку, стоявшую с заросшей бурьяном крышей. Теперь Морхаж забыл об этом. Теперь он на новых «Жигули» сидит возле сына и гордо разъезжает. Ничего, больше он не будет крутить от меня нос. Спасибо тебе, мой сын Даримсултан! Очень обрадовал ты отца старого своего, джигит наш!»
Гудайберд снимает с вечно влажных покрасневших глаз пенсне, протирает глаза платком и задумывается о сыне. Он закрывает лицо руками, огрубевшими от старости и постоянной работы по двору. Ему кажется, будто сын входит в дом и останавливается у порога. «Умеет мой сын жить, — думает Гудайберд. — И хитер, и ловок. Видно, что моя кровь.».
Перед закрытыми глазами Гудайберда возникает другая картина. По сельской улице, покачиваясь на мягких рессорах, катит белая «Волга». За рулем сидит сын Гудайберда, а справа от него сам Гудайберд. На углу, там, где расположен магазин, старики собрались пхехата. Они узнают сидящего в «Волге» Гудайберда и, щурясь от яркого отражения лучей, исходящего от новой машины, привстают в знак уважения. Гудайберд, желая показать, что он заметил их приветствие, чуть кивает в их сторону головой… Он смотрит в зеркало и видит, как старики удивленно и завистливо покачивают головами. Гудайберд отнимает руки от лица и смотрит на будильник. Уже девять часов. Гудайберд вспоминает о жене, которая, поужинав, пошла навестить сестру. «Наверное сидят, сплетничают с этой старой кобылицей», — ворчливо говорит он сам с собой. Кобылицей Гудайберд называет свояченицу. Он не любит ее за острый язык и грубость.
Гудайберд снова берет ручку, задумывается и продолжает писать: «Сын мой, Даримсултан. Денег много уходит на бесполезные дела. Эти вайнахские свадьбы и похороны меня скоро на тот свет отправят. Свадьбы у нас каждую неделю по две штуки. И не могу этих людей понять. Или бояться они, что скоро род человеческий прекратится. Кругом посмотри — только и делают, что замуж выходят, да женятся! В прошлое воскресенье был я в Яндырке. У старого осла Хучбара сын женился. Ты, наверно, знаешь его. Кажется, он приходится мне сватом тети двоюродного брата. Вот какое родство! Да он не только меня пригласил. Ни одну крышу в районе, от которой дым валит, он не оставил без приглашения. Он пригласил на свадьбу даже чеченцев из Самашки, живших по соседству во время высылки в Казахстан. Можно было подумать, что сын Хучбара женится не на дочери совхозного пастуха Исы, а на дочери какого-нибудь знаменитого на всю Ингушетию мужа. Хороший куш сорвал, наверно, Хучбар. Не меньше шести тысяч. Когда-то, в то время деньги новые вышли, Хучбар сунул мне в карман пять рублей (это было на свадьбе нашего Хамберда, твоего дяди). Эти пять рублей я и вернул Хучбару».
Гудайберд устает писать, поднимает глаза от стола и смотрит через окно во двор, освещенный ярким электрическим фонарем. Во дворе стоит новый дом, выстроенный летом из гладкого красного кирпича. Дом клал отличный каменщик-грузин, специально привезенный из Орджоникидзе. Каждый кирпич в стене будто рисованный. Карниз и края оконных проемов украшает точеный узор. Под навесом, во дворе лежат уже и алюминиевый шифер, купленный для крыши, и батареи для отопления. «Грузин наш уже закончил класть стены, — пишет Гудайберд. — Дом получился высокий, большой. Пять тысяч пришлось отдать за кладку. На меньшие деньги не согласился грузин. Закончим его строить — лучше и красивее дома не будет во всем селе.»
Оставив письмо, Гудайберд раздумывает, о чем бы еще написать, и продолжает: «До смерти надоела мне, Даримсултан, мать этого доходяги Абдурахмана, которго ты в прошлом году возил на заработки. Каждую неделю, один раз она врывается в наш двор и требует от меня деньги. Она говорит мне, что ты обманул ее Абдурахмана, не заплатил ему все заработанные деньги. Она требует еще тысячу рублей. Кричит, что не оставит нам деньги ее сына, которые он заработал своей кровью. Я сказал ей, что эту работу еще окончательно не сдали, если не веришь, поезжай в Сибирь, спроси у тамошних начальников. Не верит, старая ведьма! Третий месяц уже ходит.
Клянусь могилой отца, деньги эти она не увидит, как не увидит своего затылка. И если еще раз она придет во двор, напущу на нее Забанту. Забанта злая, все космы у нее пообрывает. Не хватает ей двух тысяч, которые ее сын привез. Если бы ты не повез его на договор, сидел бы он весь год на своих паршивых пятнадцати туманах, как голодная мышь на кукурузной кочерыжке.»
Гудайберду хорошо известно, каким образом его сын умудряется привозить с заработков большие деньги. Даримсултан сговаривается с колхозным начальством и втайне от своих рабочих зачисляет в бригаду Гудайберда, свою мать Забанту и старшую сестру.
«Больше, Даримсултан, ничего нового нет, — продолжает Гудайберд. — И я, и твоя старая мать в настоящее время, слава Аллаху, живы и здоровы. Картошку мы всю выкопали и с огорода, и с нашей делянки в лесу. Шестьдесят мешков мы выбрали на продажу. Ходил я по базарам, цены узнавал. Картошки на базарах много. Решил подождать немного.
Ты знаешь, Даримсултан, в этом году работал я объездчиком на совхозных полях. Урвал я оттуда машины две кукурузы. Вот вернешься ты из договора, накупим еще кукурузы и повезем в Грузию продавать.
Бычка два еще стоят, откармливаются. По весне их тоже продадим. Дела, слава Аллаху, идут хорошо!
Даримсултан, сын, джигит наш! Прошу тебя, деньги вези осторожно. Найди женский чулок, положи туда аккуратно и повяжи под рубашкой, как пояс. И сделай так, чтобы ни одна душа живая не узнала об этом! Не забудь завязать чулок на пять-шесть узлов! Когда машину перегонять будешь, возьми с собой в дорогу товарища надежного. Не забудь, что я тебе говорил.
До свидания, наш джигит! К сему твой отца Гудайберд.»
Закончив писать, Гудайберд сворачивает лист вчетверо, заклеивает в конверт и, написав адрес, ставит на комод, на видном месте, чтобы не забыть утром отправить.
Затем старик достает из кармана рубахи старый, с выпадающими пожелтевшими листками блокнот, где отражена хронология всех финансовых дел Гудайберда за последние двадцать лет.
«1960 год, январь», — читает Гудайберд. Под этой датой записана сумма в триста рублей, вырученная от продажи мяса коровы, уведенной Гудайбердом у одинокой старушки Калимат, жившей на окраине села. В тот год первым в селе Гудайберд огородился кирпичным забором.
«1976 год, февраль», — читает он дальше. Под датой стоит сумма, полученная от продажи сена. В ту зиму сельчанам с кормами пришлось очень туго. Гудайберд разделил стог сена на маленькие стожки и продал по небывалой цене.
Гудайберд листает блокнот.
Перебирая узловатыми пальцами желтые листки с оборванными краями, Гудайберд долго шевелит губами, читая неровное крючковатое письмо. Он откладывает блокнот в сторону и, вывернув правый карман брюк, отстегивает ржавую булавку, на которой висит ключ от сундука. Отперев замок, он откладывает в сторону вещи и достает с самого дна деньги, завернутые в зеленую тряпку. Он разворачивает тряпку и, разложив на столе денежные пачки, стянутые резинками, начинает их считать. Глаза Гудайберда становятся радостными, а руки дрожат приятной дрожью. Пересчитав деньги, он, трепетно, словно молодая мать, пеленающая первенца, опять заворачивает деньги в тряпку, кладет сверток на место и запирает сундук.
Завершив пхера ламаз, Гудайберд, сложив руки в пригоршню, совершает дуа. Он просит Аллаха, чтобы он простил ему грехи, совершенные по недомыслию и ошибке, он просит изобилия и мира дому и просит оградить дом свой от нежданных бед.
Эту дуа Гудайберд совершал тысячи раз и он, не думая, может его пересказать. Но вдруг Гудайберд увлекается другими, земными мыслями, сбивается на середине и шепчет: «О Аллах… сам знаешь, лучшего мужчины, чем я, в селе нашем не сыскать. Правда, Мажит, сын Эски, немного наступает на пятки, но его двор не огорожен железным забором, к тому же Даримсултан «Волгу» купил, газ двадцать четыре — десять!» По губам старого Гудайберда пробегает самодовольная усмешка.
С ингушского.
Перевод автора.