Довт, сын Новраза, ничем не отличался ото всех остальных, разве что трудолюбием. Трудился он не различая дня и ночи. Люди Довта не знали. Зато сам он знал себя хорошо. Ему, Довту, этого было достаточно. Довт знал, что жить тяжело, и еще тяжелее прожить, ничем себя не запятнав. Знал, что легче поберечься, чем потом мстить за обиду. Потому и берегся, ходил, будто со сломанной шеей, уставясь в землю, чтобы даже взгляд его не стал поводом для неприятности.
Довт боялся. Боялся не так, как другие, не страхом за свою шкуру. Он боялся оказаться в чем-нибудь виноватым. Быть невиновным было трудно. Невиноватых не было. Плач детей в колыбели, и тот казался подозрительным — так ли плачут дети?.. Вот чего боялся Довт. В те времена, когда предосудительным считалось даже иметь коня под седло (сколько сгинули из-за коней), Довт продал своего осла, осел-то ведь тоже животина о четырех ногах. И все равно Довт не спасся.
Его, правда, не забрали, и во двор с обыском, как к другим, не врывались. Ему пришла повестка. Многие из тех, кому приносили повестку, уходили в бега, не шли, куда вызывают, хотя и не были ни в чем виноваты. Те, которые шли, не возвращались, а если возвращались, то один, в лучшем случае, двое из десяти.
Повесток боялись.
Довт чинил сапетку (прутья он принес на спине), когда ему протянули повестку.
Ему ее прочитали.
Его вызывал начальник НКВД, завтра, рано утром (оставил время, чтобы сбежать).
«Чего они хотят от тебя, ты же ничего не сделал…» — сказала жена, словно услышав сомнения Довта — он сидел, размышлял: идти или нет.
Он снова думал о пятерых своих детях, все пятеро — девочки.
У него-то и сына не было.
В самом деле, что он такого сделал, чтобы отчитываться? А что сделали Исраил, Мажид, Малцаг, Сато, Хайдар, Шовхал — все, кто сгинул?
Нет! Мало ли… Может, и было что… Не было, откуда… как… Уж он-то знал их хорошо.
Довт пошел.
Мысли Довта снова перестали ему подчиняться, когда его, раздетого, избитого, медяка не стоящего, словно состарившегося пса, швырнули навзничь в бетонный мешок.
Он узнал, что такое Судный день (слышал, что будет такой после смерти), когда впервые в жизни увидел, как по-бабьи рыдают сильные мужчины, те, что раньше считали, будто им и равных в мужестве нет, как они клевещут друг на друга, не смея поднять спущенные штаны, стоя на ногах день и ночь в страшных муках. Ноги пухли. Сознание дробилось на обрывки слов. Разных слов.
Люди не сознавали того, что говорят.
Им было безразлично, что говорить.
Что бы ни спросили, отвечали «да». — «Ты хотел свергнуть Советскую власть?» — «Хотел». — «Снабжал абреков патронами?» — .«Снабжал». — «Ненавидел Советы?» — «Ненавидел». — «Был за немцев?» — «Был».
Если спрашивали: «Был?» — отвечал «Был». Если спрашивали: «Не был?» — отвечал «Не был».
Если этих слов не попадалось, сообразить, что надо ответить, не могли. Сознание не воспринимало. Сознание отупело.
Потом, когда человек отвечал «да» на все, о чем его спрашивали, ему мазали большой палец чем-то черным и прижимали пои написанным.
Люди не знали, что это значит. Если и знали — думать были не в состоянии. Если и думали — сделать ничего не могли. После этого людей по одному уводили.
Некоторые из тех, кого уводили, прощались. Увидимся, мол, на том свете. Другие прощаться забывали, они были не в силах осмыслить что-либо, кроме приказа.
Иные плакали, вцепившись в кого-нибудь и моля о помощи. Уведенные — пропадали.
Довт не пропал. Довта не увели.
Он не говорил ни «да», ни «нет». Не обронил ни «был», ни «не был». Когда начальник, выбив рукоятью нагана зубы, свалил его на пол, Довт понял, что пришла смерть. Потом, когда тупой носок черного блестящего сапога сломал ему два ребра, он понял это еще раз.
От него требовали, чтобы он принес пятизарядную винтовку.
Били все время по голове.
Выворачивали руки, заламывая их высоко за спину.
Руки сначала болели. Потом боль постепенно исчезла. Руки висели веревками, их можно было бы завязать в узел.
Когда ему сломали палец левой руки, он понял, что еще жив.
Через три недели, утром, вошедший с миской похлебки охранник (люди называли его сторожем) спросил Довта, чего от него хотят.
Довт рассказал.
— Ну так сдай винтовку, — удивился сторож. Довт объяснил, что у него никогда не было винтовки, что он и кинжал-то отцовский давно отдал.
— Скажи, что есть, — посоветовал сторож. — Тогда выйдешь отсюда, а там…
— Того, чего нет, говорить не стану, — стоял на своем Довт. — А бегать — это не по мне.
— Скажи, что есть, — снова посоветовал охранник. — Я тебе помогу, найду винтовку. Многие сдали и спаслись, теперь на воле.
Довт не понял, или не поверил, а точнее сказать, испугался, как испугался в тот день, когда пришла повестка. Потом мысли неожиданно прояснились, стало казаться, что все происходит в чужом, увиденном кем-то другим сне: начальник с первого дня коварных допросов, настойчиво навязывал ему один и тот же путь — бежать.
Почему? Зачем?
Из их села бежали многие, сами не зная из-за чего.
Его били еще пять дней, а Довт все не мог взять в толк, зачем начальник дает ему возможность бежать, требуя, чтобы он шел домой, вернулся с винтовкой.
Каждый раз он отвечал, что у него ее нет.
Все-таки Довту пришлось сказать, что винтовка у него есть, когда крик его жены Халимат, прорвавшись сквозь все тюремные запоры, расплавленным свинцом влился ему в душу.
Он вспомнил тогда Гелага, сына Сады, расстрелянного в тридцать восьмом году.
Гелаг выдержал три месяца, не очернив наветом ни себя, ни других. Все десять пальцев на руках Гелага полопались, когда их зажимали между дверью и косяком, потом ему сломали по три пальца на каждой руке.
Гелаг выстоял.
В конце концов, в тюрьму привели его молодую жену Баргаш, еще и месяца медового с ним не прожившую, начали раздевать у него на глазах. Тогда Гелаг принял грех на душу, сказал что все, о чем спрашивали, сделал он сам.
Так и не стал он никого чернить, и Баргаш раздели донага.
Говорят, Гелаг в тот день поседел.
***
Через три дня после того, как Довт повидал Халисат, его отпустили, чтобы вернулся с винтовкой.
— Принесешь и будешь свободен, — сказали ему.
Отперли засовы, вывели из тюрьмы и передали тому самому сторожу, который приносил еду, чтобы тот проводил Довта.
Сторож, заперев дверь своей каморки, положил перед ним священную книгу со строками из Корана.
Довт трижды поклялся не выдавать того, кто продал винтовку.
Сторож той же ночью (по уговору) ждал с винтовкой, спрятавшись во дворе у Довта в кукурузном стоге.
Довт вынес из дома деньги, сколько было запрошено за винтовку, и, еще раз поклявшись не выдавать продавшего, отдал их сторожу.
Три дня ждал Довт, не придет ли кто к ним.
Никто не пришел.
Довт понял: хотят, чтобы сбежал. Теперь он знал почему скрылись все те, кто за последний год исчезли из села. Сбежать удавалось легко, но потом беглеца настойчиво преследовали, и если не могли найти, все равно кого-нибудь убивали.
Многие, как это сейчас собирался сделать Довт, шли сдавать оружие, и он не припомнил, чтобы хоть один из них вернулся, даже слепой Ахъяд, в двух шагах ничего не видевший. Довту винтовку дал сторож, а вот где взяли их все остальные, он так понять и не смог.
За долгие три дня и четвертую ночь, проведенные в думах, он не сумел разобраться, почему власти вынуждают бежать ни в чем не повинных, преступных не больше, чем рыбы в воде, людей, почему находят самые разные поводы для обвинения, и даже на фронт по заявлению не отправляют, а только грубят — там, мол, такие не нужны. Потом он понял, что все это — какая-то чудовищная подлость, какая-то изощренная хитрость, разобраться в которой под силу разве что Всевышнему.
Поняв это, он поклялся (сначала спросив у Аллаха благословения), что не погибнет от этой неизвестной подлости, не взяв с собою на тот свет чью-нибудь душу в отместку за свою. Потом пришло спокойствие, словно все, что должно случиться, давно уже случилось.
Говорят, на четвертый день Довт был очень спокоен, ласкал детей, возился с отложенной было починкой сапетки, не обращая внимания на боль в сломанных ребрах и пальцах.
Никому из тех, кто приходил навестить его, он не сказал, что должен вернуться в НКВД. С большим трудом ему удалось и Халисат убедить в том, что его отпустили насовсем, что он все уладил.
На пятое утро Довт совершил намаз необычно рано. Потом вместе с Халисат уложил все разбросанные по наделу кукурузные стебли в один большой стог. После этого, начав с ничего не значащих воспоминаний, затеял откровенный разговор и растолковал Халисат все свои дела — кто сколько должен ему, и кому должен он сам. Затем тщательно подстриг ногти на руках и ногах, позавтракал, надел чистую одежду, и, говорят, долго ходил по двору. А когда Халисат спросила: «Что с тобой, отчего ты такой грустный?», он, попытавшись улыбнуться, ответил: «Надо же, а — еще бы немного, и пропал бы, как старая овца».
Незадолго до обеда, стараясь не попасться на глаза Халисат, он накинул чоху и долго простоял, разглядывая себя в осколке зеркала, вмазанном в стену, кашлянул несколько раз, вышел, не сказав никому ни слова, на улицу и медленно зашагал по дороге.
— Куда ты? — крикнула ему вслед Халисат.
— Схожу в сельсовет, сдам налог. Надо же тебе было вслед-то кричать… Ужин приготовь вовремя, — сказал, говорят, не обернувшись, Довт.
Больше Халисат его не видела.
Увидев Довта, сторож растерялся: вскочил со стула, прижался к стене.
Довт заставил себя остановиться и попробовал улыбнуться.
Вот, мол, пришел сдавать винтовку.
Взгляд сторожа не сказал Довту ничего.
Одна и та же винтовка, в который раз проданная сторожем, всегда возвращалась, ни разу не выдав мыслей своего хозяина.
— Поставь ее, — услышал Довт.
Нет, он должен видеть начальника, начальник велел принести и отдать ему самому.
Сторож отвел его к двери в кабинет. Довт, войдя, снова попытался улыбнуться.
Карандаш выпал из рук начальника, увидевшего Довта, и покатился по столу. Начальник побледнел, потом покраснел. Желваки взбугрились.
— Покажи винтовку, раз уж ты ее принес… А я тут уже разрабатываю операцию по твоему задержанию, — его рука приподнялась со стола.
Выстрел ударил начальника точно в левый глаз. Вторая пуля вошла в его грудь.
Довт выскочил за дверь и побежал по длинному, узкому коридору. Сторожа на месте не было. Довт собирался рассказать ему о случившемся и предложить бежать вместе.
— Руки вверх! — раздалось за спиной.
Обернувшись, Довт увидел зрачок наганного ствола, целившийся ему в переносицу.
«Сторож», — поняли — глаза, прежде чем разум успел вникнуть в увиденное.
— Послушай, — вырвалось у Довта.
Свистнула, едва не отхватив ему ухо, пуля.
Прежде чем Довт успел нажать курок, его куснуло в грудь, слева.
Довт понял свою главную ошибку чуть раньше, чем его ударило между бровей.
Третью пулю сторож, одетый в милицейскую форму, всадил ему в затылок.
Тело Довта дернулось в последний раз.
***
На надгробье, установленном без могилы у дороги в 1958 году, написано, что Довт, сын Новраза, умер в сорок третьем году.
Похоже, что мастер-камнерез забыл указать девятый день первого месяца осени. Но это, наверное, теперь не особенно и нужно.
Муса Бексултанов
С чеченского.
Перевод А. Магомедова.

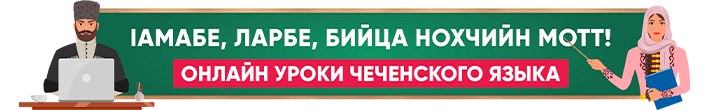


Аллах1 Дал Г1азот къобал дойл цюни!