Мы с ним вместе чабановали в горах. Отара была колхозная. Он меньше года назад вернулся из армии. Парнем он мне показался вежливым, хорошим. Я предложил ему отправиться со мной в горы, и он согласился.
Мы с ним сразу поладили. Бывало, загоним отару в кошару, растопим печь и лежим себе, отдыхаем.
Печь стояла посреди комнаты, а двое наших нар — по сторонам от нее. Дверцу печи мы всегда оставляли открытой. Лампу не зажигали, разве что если зачем-нибудь понадобится. Переговорили мы с ним многое. То есть это он мне многое рассказывал, как я понял позже, много позже…. — Нет, это вовсе не так… Подумаешь, вышла замуж девушка, за которой ухаживал три года! Так значит, она и должна была поступить. Человек она такой, стало быть. Оно и хорошо, что вышла. Прикинь, ты потерял всего-то три года! А каково было бы, если бы пришлось терять всю жизнь… Так-то вот…
Заводя этот разговор, он всегда садился на нарах.
В ту ночь, в последний раз хватая губами воздух, он все пытался улыбнуться мне. Или мне так казалось… Вряд ли у него были силы на улыбку.
— Знал бы ты, какая у Малики подруга хорошая, в магазине вместе с ней работает. Высокая такая, статная. Я скажу Малике, чтобы познакомила вас. Ты ей понравишься, я знаю.
По нескольку раз за ночь приходилось уходить в кошару, смотреть, не окотилась ли овца… Ходил всегда он. — Бога ради, Аюб, погоди, я сам… не вставай… вот я уже и готов, осталось только один башмак надеть, лежи.
— Нельзя же разувериться во всех из-за того, что одна поступила так. Это ничего, пустяки. Ты знаешь, как это здорово, когда кого-то сильно любишь, светло как-то на душе… Знал бы ты, как мне сначала нелегко было поладить с Маликой! Я туда ровно семь месяцев ходил, каждый день, иногда — через день. Потом она приняла-таки мои ухаживания.
Иногда случалось, мы разговаривали и курили до самого утра. Курил он ужасно много, сядет, бывало, у печки и курит.
— Как-то гуляли мы с Маликой по парку. Хорошо было. Я мороженое купил… Точнее сказать, купил плитку шоколада и цветы.
— Одновременно? В один день?
— Ага. Сначала плитку. Потом вечером, когда расставались,— цветы. Когда я ей подал цветы, она здорово смутилась, покраснела вся. Эх! Был бы я тогда знаком с тобой, как сейчас! Подружка у нее красивая, ты не сомневайся. А какая у нее фигура! Одни ноги чего стоят! А талия… В жизни никогда не видел такой длинной и красивой шеи, как у нее! А чтобы красилась — ни-ни. У нее и так кожа гладкая, нежная.
В ту холодную ночь, когда неоткуда было ждать помощи, и я, плача, обнимал его, он все пытался сказать мне что-то. Неподалеку шумела река. В расщелине свистал холодный ветер. Мой крик завывающим эхом отражался от крутых скал.
— Вот что я придумал, Аюб. Когда наступит весна, вернемся домой, я съезжу в город, поговорю с Маликой, а потом — две свадьбы, одну за другой… Женим тебя на той девушке.
— Сначала женим тебя на Малике, Хасан.
— Нет, что ты! Сначала тебя. Тебе же скоро двадцать восемь. А мне и двадцати одного нет.
Когда наступит весна! Весна не наступила. Весна пожухла, чтобы не наступить уже больше никогда. Приход весны затянулся на целую человеческую жизнь. Весны не стало.
— Не перестаю тебе удивляться! Надо же, она вышла, замуж, и ты на шесть лет запер свое сердце, даже и не пытаясь познакомиться с другой девушкой! Удивительный ты человек — хватило же терпения. С ума сойти. Я бы в жизни так не смог.
Да, так он мне и говорил, примеры разные находил, удивлялся.
Чабанить становилось тяжело, наступали трудные дни, мело. Частенько наваливало снега, и нам приходилось потрудиться. Самую тяжелую работу он всегда брал на себя. Мне не давал даже покормить овчарок. Из кошары не выходил.
— Хасан, Хасан, что с тобой? Хасан, дружище… Ночь, река. Снег, серебрящийся в лунном свете. Скулеж овчарок.
— Я умираю, Аюб… я умираю. Конец… Всему конец, Аюб… Аюб…
— Ты куда?
— Пойду, пригоню отару.
— Подожди… Ради Аллаха, подожди… Ну вот я и готов, Аюб…
— Да ладно тебе, какая разница, кто пойдет…
— Нет-нет, я пойду, а ты оставайся, чайку вскипяти… Оставайся… Он ушел. Потом меня спрашивали, что я чувствовал, когда он ушел, какие мысли приходили. Не было ли, спрашивали, страха, каких-нибудь предчувствий.
Ничего тревожного я не чувствовал.
Когда он вышел, я подбросил в печь дров, налил в чайник воды, поставил его на плиту, потом лег на нары. Были какие-то мысли. Я помню их все как есть:
«Счастливый он парень, Хасан. Надо же так любить жизнь. Так верить в нее. В нем еще сохранилась эта детская светлая вера, любовь, убежденность в том, что все мечты сбудутся. Верно, он не пережил ничего такого, что сокрушает его веру. Такие, кого не обуздала жизнь, встречаются один на сотню. Это очень даже хорошо. .Хорошо, что с ним не случалось ничего такого, из-за чего теряют веру в жизнь и в людей. Нечасто удается встретить такого человека».
С этими мыслями я пролежал довольно долго, забыв, что и Хасан и отара бродят в горах. Я снял с плиты закипевший чайник, поворошил угли. После этого снова долго лежал.
Пришла на ум девушка из аула, которая, надолго лишив меня душевных сил, вышла замуж, вспомнилось и другое. И только потом я встал и вышел. И тут вижу — овцы, жуя жвачку стоят возле кошары. Козы, те зашли в кошару. В голову пришла успокоительная мысль о том, что Хасан разыскивает, наверное, где-нибудь ослабевшую хромую или больную овцу.
Слабые овцы все были на месте. Я закрыл кошару, немного повременил, потом окликнул его.
Ответа не было. Я кричал снова и снова.
Далеко вверху, на краю обрыва, залаяла собака Таго. Остальные овчарки были здесь. Тогда я стал звать: «Таго! Таго! Таго!» Собака залаяла снова, не так, как раньше, а скуля, словно от голода.
Я пошел к ней.
Я громко кричал. Ответа не было. Потом, когда я поднялся в гору, овчарка, не двигаясь с места, стала, поскуливая, лаять.
Хасан лежал в расщелине, ногами в воде. Луны не было. Кругом высились черные, словно угольные, горы.
— Хасан! Хасан! Что же это такое… что с тобой?.. Хаса-ан!
Во внутреннем кармане пиджака он всегда носил большой нож острием вверх.
Он шел по краю обрыва и оступился. Видно, полы тулупа и пиджака распахнулись, а когда он упал, нож, на всю длину лезвия вошел в его грудь слева. После этого он покатился с обрыва вниз, сломал ногу. Я перевернул его на спину. Я рыдал, хватал его, не зная что делать, кричал, просил о помощи, которой неоткуда было здесь ждать.
— Аюб… Аюб… Все… я… умираю… Аюб… Не плачь, перестань… Воды… принеси воды… воды… Аюб…
Потом, когда прошло немного времени, я поехал в город. Отыскал тот самый магазин. Малика — высокая, красивая, стояла напротив меня. «Что мне говорить? Как сказать, что Хасан умер? Что же она станет делать, узнав это?»
Я подошел к ней. Немного помедлил.
— Девушка… Тебя зовут Маликой? Ты была знакома с Хасаном?
— С каким Хасаном?
— С Джабраиловым, из села…
— Я… Я не знаю его…
— Невысокий такой, такой…
— Я не знаю никакого Хасана.
— Как?
— Среди моих знакомых нет ни одного Хасана.
— …
— А в чем, собственно, дело? Почему ты меня так расспрашиваешь?
— А?
— Я говорю — что случилось, почему…?
«Знал бы ты, как это хорошо — любить кого-то… Ну и что, если любимая вышла замуж. И как это можно так — прожить целых шесть лет, ни разу не взглянув ни на одну девушку. Девушки — они же не все одинаковые».
Пока я стоял в магазине, начался дождь. Он шел крупными каплями. Сигарета. Курить было и трудно, и легко.
«Как это ты сумел — за шесть лет ни разу не заговорить с девушкой, просто удивительно… Подумаешь — замуж вышла! Это даже хорошо. Выбрось из головы. Забудь. Пустяк! Когда наступит весна, мы с тобой поедем в город…»
… Когда наступит весна…
Навстречу мне двигались люди и машины. Дождь… Дороги были мокрыми… Дороги…
С чеченского.
Перевод А. Магомедова.

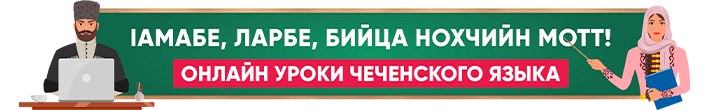

жизнь)