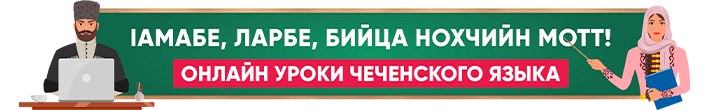/Дети униженного детства/
Большие ярко-синие глаза, румяные пухлые щеки, вьющийся русый чубчик, свисающий до бровей, — это мой одноклассник Вовка Воротынцев. Почти ежедневно, при любом удобном случае, Вовка бывал бит нещадно. Дело было даже, скажем, не в зловредности Вовкиного характера. Ни жадиной, ни ябедой, откровенно говоря, Вовка не был. Жадность и склонность к ябедничеству, в нашем детском понимании, были самыми большими и непростительными пороками.
Но били Вовку с завидным постоянством и довольно усердно, особенно девчонки.
Стоя на тонких ножках, только-только научившихся ходить после долгой и изнурительной болезни, я со стороны наблюдала за этой процедурой, ставшей почти ритуальной, и нисколечко мне почему-то Вовку не было жалко.
Вовкина бабушка — Ольга Ивановна, наша первая учительница, была очень строга и требовательна к нам. В то время для нас авторитет учителя был непререкаем, его слово — закон, его дела, поступки не подлежат обсуждению, и уж тем более — порицанию.
Вес так и было, но с одним «но» — не было незабвенной детской любви к первой учительнице, той любви, которую проносишь через всю жизнь.
Ежедневно, во время большой перемены, Ольга Ивановна, как бы Вовка ни упирался, сажала внучка за учительский стол и разворачивала сверток, в котором, как правило, были бутерброд с копченой колбасой или настоящим сливочным маслом и огромное яблоко с румяными, как Вовкины щеки, боками.
И тогда… Короче, не до чистописания нам было. Как-то не лезли в голову «нажимы», «волосяные», слоги и слова.
В воздухе буквально повисал запах пышного белого хлеба и колбасы, аромат хрусткого сочного алмаатинского апорта. Вечно голодные глаза, помимо нашей воли, следили за тугими Вовкиными щеками, за которыми исчезает все это недоступное для нас великолепие. Не останавливала даже сама крамольность помыслов, ведь колбаса наверняка была свиной, запретной для мусульманина.
Не могли мы сыну директора химкомбината вечной сытости простить. А главное, простить массовую пытку белым хлебом с маслом и колбасой.
Наш маленький поселок можно за полчаса обойти. Мальчишки на это тратили и того меньше, поэтому они всегда были в курсе всего, что в поселке происходит.
Наткнулись они как-то на товарном дворе на кучу прессованных плиток желто-коричневого цвета, сильно пахнущих семенами подсолнечника. Попробовали. Хронически голодные мальчишки пробовали все, что могло хоть как-то утолить чувство голода. Главное -съедобно. Это была макуха — шелуха от отжатых семечек подсолнуха, дивно пахнущая постным маслом.
Мальчишки, набрав полные запазухи макухи, щедро раздавали её всем. 11а второй день вся школа с аппетитом грызла ароматные плитки макухи, предназначенные для скота. Макуху вскоре куда-то увезли, и кончились наши более-менее сытные дни, но зато и мучиться животами перестали.
Через некоторое время вездесущие мальчишки на территории поселкового гаража обнаружили огромную кучу смолы, страшно пахнущую мазутом. Конечно же, смола ни в какое сравнение с макухой не шла, но, жуя ее, можно было хоть как-то обмануть чувство вечного голода.
В классе, в основном, были дети «врагов народа», спецпереселенцев: чеченцев, ингушей, немцев, балкарцев, корейцев, евреев и даже русских и украинцев, раскулаченных еще в 30-е годы и депортированных сюда, в Казахстан. Отношение к нам было соответственное. Как я ненавидела слово «спецпереселенец», как стыдилась его! Я готова была провалиться сквозь землю, когда учительница, зачитывая список класса очередному проверяющему, после наших фамилий добавляла резюме
— «спецпереселенец».
Хиленькие косички Ольги Ивановны, в соответствии с тогдашней модой, уложены коронкой на голове. Тонкие накрашенные губки всегда брезгливо поджаты, костлявые пальчики так и норовят ухватить за ухо. Но излюбленным методом вдалбливания науки в наши непутевые головы у нее было битье деревянной линейкой по костяшкам наших пальцев или по стриженым наголо головам.
А стрижены мы были все — и мальчишки, и девчонки. Это был один из методов борьбы со вшами, великое множество которых поселялось и в одеждах наших, вплоть до чулок, и на наших, даже стриженых, головах. Кусок черного хозяйственного мыла в то время был на вес золота.
За год учебы в первом классе эта линейка так и не вбила в мою голову премудростей русской грамоты. Читать я так и не научилась. Правда, переписывать буквы, слоги, слова я научилась с блеском. По чистописанию у меня была оценка «5».
Панический страх перед Ольгой Ивановной, и особенно перед унизительным наказанием линейкой, заставлял меня страничку за страничкой заучивать наизусть тексты букваря, которые мне кто-нибудь дома зачитывал. А на уроке, старательно водя пальцем по строчкам, я «читала» заученный текст, о чем Ольга Ивановна даже не догадывалась.
В первом классе я читать так и не научилась. Осилила грамоту только во втором классе, но отнюдь не стараньями моей первой учительницы. Но все по порядку.
Поселок наш маленький, соответственно, мала была и наша семилетняя школа имени, ясное дело, Сталина. Всего семь классных комнат, в каждой из которых
— около десятка парт и учительский стол, вплотную примыкающий к первой парте.
Обязательный атрибут каждого класса — маленькая печь, которая нещадно чадит, отчего постоянно болят наши, как говорит Ольга Ивановна, «безмозглые» головы. А болеть им, по мнению учительницы, и повода нет никакого, в силу отсутствия в них тех самых мозгов.
Ближе к концу зимы побеленный потолок становится серым. Глиняный пол от растаявшего снега на обуви превращается в грязь, печь, которую топят один раз в день, к середине дня совсем остывает.
Зимой, в сильные бураны, нашу низенькую школу так заносило снегом, что невозможно было открыть дверь. На помощь приходили родители: раскапывали школу, а нас, привязав одеялами или огромными платками к спинам, разносили по домам.
В школе не было учительской комнаты, но зато была крохотная комнатка, которая именовалась школьной библиотекой: несколько некрашеных самодельных стеллажей, стол и стул библиотекаря Иды Гавриловны. Ее любили все, от учеников до единственной школьной уборщицы — суровой тети Капы. Ида Гавриловна, молодая девушка, передвигалась с трудом — сказывались последствия детского церебрального паралича. Но при этом она была очень жизнерадостным и отзывчивым человеком. Без сомнения, она была бы прекрасным педагогом.
Ида Гавриловна не просто выдавала и принимала книги, она обязательно беседовала с каждым из нас о прочитанном, рассматривая и обсуждая вместе с нами иллюстрации. И вместе с нами заразительно смеялась над проделками доброго и находчивого Буратино, над неудачами коварного Карабаса-Барабаса.
Человек наблюдательный и чуткий, библиотекарь первая заметила, что я не умею читать, но, будучи к тому же еще и человеком тактичным, предпочла об этом не говорить даже со мной, а потихонечку начала учить меня читать, проявляя при этом завидное терпение и настойчивость.
Зная все буквы, я никак не могла заставить их складываться в слоги и слова. Не могла понять, и все тут, как это буквы «эм» и «а» образуют слог «ма», у меня почему-то «эма» получалось; а буквы «эр» и «а» — слог «ра», а у меня — «эра». Спросить об этом у Ольги Ивановны у меня, разумеется, язык не поворачивался, не хватало духу. Брызгая слюной, буравя меня злыми бесцветными глазками насквозь, она заорала бы:
— До сих пор не поняла, тупица безмозглая?!
Именно Иде Гавриловне я обязана тем, что научилась читать, благодаря ей я открыла для себя удивительный мир Маленького Мука, Буратино, Гавроша, Тома Сойера. К четвертому классу я перечитала все книги школьной библиотеки. Повзрослев, я поглощала такое количество книг, что дня не хватало. Ночи напролет, тайком от родителей, с фонариком под одеялом, я уходила в мир Диккенса и Дюма, Пушкина и Толстого, плача и смеясь, растрачивая душевные силы на никому не нужные сопереживания героям романов. Это я теперь понимаю, что книжный мир, выдуманный поэтами и писателями, ничего общего с жизнью не имеет.
Однако первые строчки, прочитанные мною самостоятельно, я запомнила на вею жизнь.
…Однажды, придя в библиотеку, я, в ожидании, когда Ида Гавриловна освободится, стала рассматривать портреты на стенах. Велико было мое желание научиться читать, проникнуть в этот чудесный, но пока еще не открывшийся мне книжный мир.
Так вот, Ида Гавриловна занята. От нечего делать я рассматриваю портреты на стенах, пытаюсь прочитать тексты под ними, перелистываю довольно толстую книгу на столе. И вдруг неожиданно для себя — и для Иды Гавриловны, разумеется, — четко и громко прочитала:
Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы.
/Дети униженного детства/
Третьи сутки снежный буран заметает вросшие в землю кибитки, попросту землянки — ни воды принести, ни дров достать. Дрова и уголь в этом, как говорят, Богом забытом степном краю — самая большая проблема.
Еще вчера родители Пипы, Абубакар и Совдат, ушли, чтобы хоть какие-то щепки по поселку собрать. Печь-то не топлена уже несколько дней. Конец февраля, а заготовленные на зиму дрова и сушеный кизяк уже давно кончились.
Абубакар разрубил на дрова даже деревянный топчан, который заменял им и кровать, и стол, и стулья, а другой мебели в комнате не было. Когда кончились и эти дрова, Абубакар собрался идти искать по поселку щепки, кизяк, все, что может гореть, для того, чтобы можно было печь затопить, согреться и похлебку из отрубей и картофельных очисток сварить. Совдат Абубакара одного не пустила, уж очень он слаб был, туберкулез совсем подкосил. А неукротимая пурга, сметающая на своем пути все, завывает по-волчьи… Холод… тоска… человеческая беспомощность…
Мы, дети голодного, холодного и униженного детства, науку выживания усваивали на практике. Возвращаясь из школы, мы никогда не проходили мимо даже самой маленькой щепки, сухой ветки или коровьей лепешки на дороге. Сушеный кизяк — хорошее топливо, которое долго тлеет и держит тепло.
Поселковая детвора часто бегала на станцию, куда прибывали вагоны с углем для объектов химкомбината. В свои холщовые сумки мы собирали оброненные при разгрузке куски антрацита и даже угольную пыль. Она хорошо и долго горела, если ее смочить водой, правда, выделяла при этом ужасный запах, от которого потом долго болела голова.
От жестоких казахстанских морозов мое поколение страдало едва ли не больше, чем от голода. Худенькие детские тельца не могли противостоять свирепому напору степных буранов. Не защищали ни ветхие стеганые телогрейки с чужого плеча, подпоясанные бечевкой, чтоб не поддувало, ни огромные кирзовые сапоги, которые, застыв на морозе, становились железными. Стараясь как-то утеплить их, а заодно и уменьшить размер, мы набивали их соломой, старыми газетами, тряпками.
…Вторые сутки Пипа лежит в груде тряпок прямо на земляном полу, подтянув коленки к самому подбородку и обхватив их руками — так теплее, — и терпеливо ждет. Вода в деревянном ковшике, предусмотрительно поставленном матерью рядом, давно замерзла. Когда совсем невмоготу от голода, Пипа лижет лед языком, ставшим таким непослушным почему-то, и снова ждет. Вот-вот скрипнет дверь, и покажутся дада и нана. В печке весело запрыгает огонь, и запахнет в кибитке горячей похлёбкой. Она даже представила себе, как тепло от горячего супа в желудке будет разливаться по всему телу, согревая его. Пипа закрыла глаза.
…Пипе четыре года, но вряд ли ей дашь больше двух: худенькое тельце, стриженая голова, кажущаяся огромной на тонюсенькой шейке, да и ходить она еще не научилась. Нет в поселке ребенка жизнерадостнее, чем Пипа. Большие серые глаза, обрамленные густыми светлыми ресницами, всегда смеются. Когда она, сидя дома, глядела в окно и прижималась лицом к стеклу, се маленький носик становился приплюснутым и очень потешным. Проходя мимо землянки и видя огромные смеющиеся серые глаза, мало кто мог удержаться, чтобы не прижать к приплюснутому по ту сторону стекла носику малышки большой палец и не сказать традиционное в таких случаях «пи-и-и-и-п!».
Пипа в ответ заразительно смеялась, откидывая назад тяжелую голову. Так и стала она на имя «Пипа» откликаться.
Мы часто играли под окном у Пипы, а она, сидя у себя дома на топчане по ту сторону окошка, внимательно следила за нашими играми и была как бы участницей всех наших забав. В свои четыре года Пипа ни ходить, ни говорить еще не умела. Даже мы, дети, понимали, что все это от постоянного голода.
Раньше семья Пипы была большой. Была… Отец с матерью и семеро детей. Шестеро старших — четверо братьев и две сестры — умерли один за другим. Осталась самая младшая — Пипа.
Последний из шестерых умирала моя ровесница Айбант. Мы с мамой пошли навестить Айбант, когда узнали от Совдат, что моя подруга совсем плоха.
В семье Абубакара и Совдат кашляли все. В поселке говорили, что это чахотка и все они не жильцы.
«Если Аллах не поможет, им уже не поможет никто», — таким был общий вердикт.
Тем не менее, помочь этой семье пытались все, кто чем мог, а могли, разумеется, очень немногим -картофельные очистки, отруби, пиалка кукурузной муки, луковица, одежда, оставшаяся от умершего ребенка…
В поселке не было больницы, да и врача, по большому счету, тоже не было, если не считать фельдшера Беллу Исааковну, мать нашей школьной библиотекарши Иды Гавриловны. Больница была в четырехстах километрах от поселка, но кто туда спецпереселенца пустит?
…Даже днем в землянке полумрак. Вмазанный в стену тусклый осколок стекла пропускает дневного света всего ничего. Половину комнатки занимает деревянный топчан вдоль всей правой стены. Слева печь. Над ней выемка-ниша для посуды. Несколько деревянных ложек и чашек — вот и вся посуда. Самодельное ведро из жести в углу и медный таз, привезенный с собой из Чечни.
… Айбант совсем не узнать: лицо какое-то прозрачное, с темными кругами под провалившимися серыми, как у Пипы, глазами. Нос острый, как клювик.
Моя мама вложила в руки Совдат несколько картофелин — это было все, чем она могла поделиться с соседкой.
— Айбант, ну как ты? Скоро зима кончится, пойдете с подружками дикий чеснок, вишни собирать, -улыбнулась мама, поглаживая Айбант по стриженой головке.
Айбант молчала, хрипло дыша. А я не знала, что и сказать, совсем растерялась, с трудом узнавая свою подругу. Да и Айбант ли это?
— Айбант, посмотри, к тебе подруга пришла, — мама подтолкнула меня к краю топчана.
Айбант молчала, как будто не видела и не слышала нас. Вдруг она открыла глаза и тихо, но внятно сказала:
— Знаешь, деца, если бы я съела кусочек хлеба, макая его в густое, как каша, постное масло, может, я и не умерла бы.
Мама растерянно смотрела то на Совдат, худую, сгорбленную, с таким же землянистым, как у Айбант, лицом, то на Абубакара, сидевшего на корточках, прислонившись спиной к остывающей печке, временами покашливая и поглаживая седую щетину на впалых щеках.
Я помню, как мать долго не могла оправиться от изумления, когда узнала, что Абубакару было всего 27 лет, а Совдат и того меньше — 24.
Кусочек черного хлеба и загустевшее на морозе постное хлопковое масло мама принесла на следующее же утро, как только купила по талонам хлеб в магазине. Но не суждено было исполниться мечте Айбант о кусочке черного хлеба и хлопковом масле. Она умерла той же ночью…
…У Пипы нет сил открыть глаза, глянуть в сторону оконца. Ночь или день на улице? Но она еще слышит вой, разрывающий душу и леденящий кровь во всем теле, вой свирепого казахстанского снежного бурана.
Маленькая дверь землянки, сколоченная из неструганых корявых досок, буквально стонет под натиском ледяного ветра, который пытается сорвать ее с брезентовых петель. Дверь скрипит и трясется, а Пипе кажется, что это дада с наной вернулись и никак
открыть ее не могут, шаря и шаря руками по занозистым
доскам.
Пипа широко открывает серые, обычно такие смешливые, глаза, в которых сейчас застыла льдинка, а затем медленно, как бы нехотя, закрывает их, теперь уже навсегда.
…Закоченевшие тела Абубакара и Совдат нашли через день, когда буран кончился, за поселком, на берегу речки Таласки.
Так в далекой ссылке навсегда погас очаг и закрылись двери дома Абубакара, сына Дауда из горного села Дай.
/Дети униженного детства/
Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год на протяжении долгих 13-ти лет разлуки с родиной, после традиционных приветствий при встрече, вайнахи задавали друг другу один и тот же вопрос:
— Что слышно? Не говорят ли, что нас домой отправят?
Тоска по родине для моего народа — это не просто тоска по оставленному очагу, дорогим для сердца любого чеченца горам, лесам, рекам. Это была, прежде всего, мечта о свободе, торжестве справедливости. Стремление к свободе для любого нормального человека является таким же естественным, как необходимость дышать воздухом, пить воду, наслаждаться красотой мира. Только свободный человек может быть настоящим человеком. Даже приветствие у чеченцев — это не просто приветствие, а пожелание свободы: «Марша вог1ийла!»
0 «Приходи свободным!». Прощание — «Марша 1ойла!»
1 «Оставайся свободным», «Марша г1ойла!» — «Уходи свободным!».
Даже дети, рожденные в ссылке, считали своей родиной Кавказ. Наверное, это было довольно забавно и в то же время трогательно, когда — в подтверждение справедливости своих слов в споре о чем-то — какой-нибудь малыш клялся самой «страшной», на его взгляд, клятвой:
— Чтоб мне никогда своей родины Чечни не видать!
Любовь к далекой, по сути, не известной нам родине мы впитывали из разговоров и рассказов взрослых, которые мы так любили слушать…
…У меня всегда щемит сердце, когда я вспоминаю, как в 1987 году, будучи в турецком городе Бейшехире в гостях у дальних родственников, я была приглашена в дом одной чеченской семьи. Там умирала женщина. Услышав, что приехали гости из Грозного, она, через своих родственников, попросила нас встретиться с ней. Еще молодая женщина, родившаяся, как и ее отец, и ее дед, в Турции, она своей родиной считала землю своих предков — Чечню.
Женщина пожала мою руку, потом прижалась к ней щекой и долго не отпускала. Тоска по далекой родине съедала ее душу изнутри сильнее, чем рак ее бренное тело. Никогда не забыть мне слова, сказанные ею на прощание. Поцеловав мою руку, с рыданиями в голосе она сказала:
— Передай этот поцелуй моей милой чеченской земле!
Конечно же, этот весет я выполнила…
…Много позже я поняла, какими мудрыми, какими умными и прозорливыми были наши старики, несмотря на почти сплошную неграмотность.
Сколько преданий, легенд, поучительных притчей, интересных историй мы слышали от них. А как красиво они умели все это излагать!
Именно от них мы узнали имена борцов за свободу не только Чечни, но и всего Кавказа: Шейх Мансур из Алдов, бесстрашный Байсангур Беноевский, девушка-воин Таймасха из Гехов, Зелимхан Харачоевский -благородные, мужественные люди, герои бесчисленных народных преданий, песен, легенд…
Жил рядом с нами одинокий старик Сайд-Али. Настоящий горец — высокий рост, огромные руки, одинаково хорошо знакомые с молотом и топором, плугом и косой, ружьем и кинжалом. Орлиный нос, нависшие седые брови, борода — его суровый, словно вытесанный из камня облик поначалу страшно пугал нас.
Однажды, после очередного приступа малярии, я буквально выползла из комнаты и, прислонившись к стене нашей кибитки, наблюдала за младшим братом, который усердно лепил из глины хлопушку и, хорошенько намочив дно слюной, со всего размаха бил ею о землю, отчего та разрывалась с громким хлопком.
Тут-то и подсел ко мне Сайд-Али. Он вынул из перекинутой через плечо холщовой сумки маленькую, размером с его средний палец, куколку и без слов протянул ее мне. Ее туловище и руки были сделаны из связанных крест-накрест палочек, голова — обтянутая тряпочкой монетка, привязанная к палочке-туловищу. Одета кукла была в платье, очень похожее на г1абли. Оказывается, Сайд-Али был большой мастер делать игрушки.
Познакомившись с нами, детворой, ближе, он снабжал мальчишек свистульками и рогатками, девчонок — куклами из палочек, бумаги, кукурузных початков.
Но это еще не все. Этот неграмотный старик, никогда не только не видевший, но даже и не подозревавший, что на свете существует такое замечательное волшебство, как театр, был талантливым сценаристом, режиссером и актером одновременно.
Поздним вечером, когда мама разводила огонь в очаге, сложенном перед кибиткой, чтобы приготовить ужин, и отсветы пламени прыгали на стене кибитки, дедушка Сайд-Али, которого вся детвора уважительно называла Ваша, устраивал для нас настоящий спектакль.
Зная это, вся детвора округи собиралась перед нашей кибиткой. Благодарные зрители, сидя прямо на пыльной земле, раскрыв рты, зачарованно смотрели на то, как тени от ловких рук Ваши становились то трусливым зайцем, то задиристым петухом, то забавным щенком. Потом Сайд-Али стал озвучивать то, что происходило на стене-экране. И тут мы узнали, что такое настоящий спектакль-сказка. Далеко за полночь, когда и огонь потух, и на стене уже ничего не покажешь, мы завороженно слушали сказки Сайд-Али о непобедимых богатырях, один на один выходивших на сражение с огромным Саьрмаком, верных товарищах, всегда готовых, рискуя собственной жизнью, придти на помощь другу, о коварной Жоьра-Бабе.
Огромных усилий стоило матерям загнать нас в постель…
Именно из рассказов наших стариков узнавали мы историю чеченского народа, не желавшего мириться с деспотизмом России и на протяжении веков мужественно сражавшегося за свою свободу. Огнем и мечом прививал царизм в стране вайнахов «любовь» ко всему русскому. Вырубленные ценнейшие леса, сожженные дотла селения, сотни тысяч безвинных жертв среди мирного населения — вот результат имперской колониальной политики России на Кавказе.
Сожженный дотла 150 лет назад Дади-Юрт и сейчас не забыт чеченцами, как не забыты Хайбах, Саади-Котар, Самашки, Алды и Грозный. Сколько бы столетий ни прошло, это история страны, это история народа, и останется она в памяти народа навсегда.
Уже в далекой ссылке вайнахи наконец-то поняли, что высылка в Сибрех (так они называли Казахстан и Среднюю Азию) — это вовсе не трагическая ошибка, а целенаправленная акция, направленная на истребление целых этносов: чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, калмыков и других.
Немудрено, что на уроках пения, когда заставляли петь:
«Сталин — наша слава боевая,
Сталин — нашей юности полет…»
или:
«О Сталине мудром, Родном и любимом,
Прекрасные песни Слагает народ…»
…все мое нутро протестовало. Я плотно сжимала губы, и никакая сила не могла затавить меня их разжать. Зато в песне, где были слова «Пуще грянет, громче, чем гремела слава русских моряков», я вместо «чем» самозабвенно орала «чечен». Уж очень хотелось, чтобы близкие и родные слова «чечен», «Кавказ» звучали в песнях и стихах, и, конечно же, не с эпитетами «предатель», «фашист», «враг народа», «бандит» и «спецпереселенец».
Откуда мне тогда было знать, что, по всем законам русской грамматики, нужно говорить «чеченец», а не уничижительно «чечен», что в то время было синонимом слова «бандит», впрочем, как и в наши дни. Как видно, история повторяется… Нет-нет, неверно. История продолжается…
Ольга Ивановна долго не могла понять, что это я то молчу, то ору, пытаясь перекричать весь класс. А когда поняла, долго стучала костяшками сжатых в кулачок пальцев по моему лбу, шипя при этом:
— Не «чечен», а «чем, чем, чем!»…
…Март 1953-го. Умер Сталин. Страна в шоке. Как быть? Как жить? Без «великого, мудрого, любимого»?
Разумеется, вайнахи, да и не только, связывали с кончиной Сталина определенные, всем понятные надежды. Это мы из разговоров взрослых поняли. По всей стране огромной проходят траурные митинги с рыданиями и обмороками. Не исключение и наш небольшой поселок.
В поселковый клуб согнаны (добровольно кто б пошел?) спецпереселенцы. Как говорится, яблоку негде упасть. Теснота, духота. Все местное начальство в президиуме — на фоне огромного траурно украшенного портрета вождя. Со слезами на глазах заверяют народ, что курсу, проложенному великим вождем, партия и страна никогда не изменят. И вдруг в задних рядах шум, какая-то сумятица. Это Жовжан упала в обморок.
Жовжан — женщина огромного роста, полная, но полная она вовсе не оттого, что ее дом — полная чаша. Хотя таковым ее дом, то бишь комнатку в бараке, можно было бы и назвать, потому что полон он всегда голодными разномастными детьми, половина — смугло-чернявые в мать, другие — огненно-рыжие в отца. Всего их у Жовжан одиннадцать. Жовжан в поселке, чтобы отличить от ее тезки-соседки, называют «дукха бераш долу Жовжан» -Многодетная Жовжан. Многодетная Жовжан — женщина своенравная и властная, что совсем не характерно для вайнахской женщины. Она в доме и хозяйка, и хозяин, а хиленький молчаливый муж ее Хамид в доме вовсе и не при делах. Хотя в присутствии земляков Хамид мог властно прикрикнуть на строптивую, громкоголосую
жену, а она, изображая покорную вайнахскую женщину, беспрекословно выполняла его приказания.
Говорили, что Жовжан была единственным ребенком в семье. Отец ее почему-то не женился больше, хотя мог бы — в соответствии с законами шариата — привести в дом еще одну жену, дабы не иссяк его род, так как дочь, по вайнахским законам, не является продолжателем рода. Не имея сына, отец воспитывал Жовжан, не делая скидок на то, что она девочка.
С малых лет Жовжан с отцом ездила в лес за дровами, наравне с ним косила траву, ходила на охоту в горы, успевая при этом выполнять девичьи обязанности по дому.
Рассказывали, что однажды, когда Жовжан было всего 15 лет, она пошла со своим отцом на охоту и в лесу им повстречался огромный медведь. Отец прицелился в зверя и нажал курок, но ружье дало осечку. Разъяренный медведь одним ударом когтистой лапы выбил ружье из его рук и подмял охотника под себя. Жовжан, не растерявшись, схватила отлетевшее ружье и выстрелила медведю прямо в ухо. О поступке Жовжан, на который даже не всякий джигит способен, в ауле еще долго вспоминали.
.. .Человек 5-6 выносят Жовжан из клуба в мартовскую стужу, где она быстро приходит в себя, но обильные слезы продолжают течь из ее покрасневших глаз. Вдруг над ней нависает ненавистная физиономия спецкоменданта Фифанова. Чеченцы называли его «Пинан» (ну нет в чеченском языке звука «ф», а заменить его, кроме как близким по звучанию «п», и нечем) или «Шозза Миклай», потому что звали его Николай Николаевич.
Дыша в лицо Жовжан перегаром (трезвым Фифанов практически не бывал, а по такому трагическому случаю и сам Бог велел), участливо-командирским голосом так говорит:
— Что же ты, Жовжан, так? Прорвемся! Крепись!
На что наша Жовжан, практически не знающая русского языка, отвечает:
— Я плакат, зачем так поздно помирает! И добавляет на чеченском:
— Цунах къахеташ-м ца йоьлхий со. Ц1 ела керчарг, сел т1аьхьа х1уида вели бохуш, йоьлхий-м со.
Примерно это означает, что плачет наша Жовжан не от жалости к извергу, чтоб он в крови своей катался, а от досады, почему же он так поздно умер!
Последних фраз, конечно, Фифанов не понял, но фраза, сказанная на русском языке, его просто ошарашила.
Не дожидаясь, пока Фифанов закипит гневом от такого открытого проявления ненависти к «великому вождю» и последуют неминуемые карательные акции по отношению к Жовжан, оказавшаяся рядом Падам, бывшая учительница, среагировала моментально. Она заверила коменданта, что Жовжан, плохо владея русским языком, перепутала слова «поздно» и «рано» и, конечно же, она плачет оттого, что Сталин так рано умер…
…Здание школы имени Сталина, то есть нашей школы, — тоже в черных траурных лентах. Красные флаги, обшитые черными лентами, приспущены. Траурными лентами и цветами убран огромный портрет Сталина в актовом зале школы.
Директор, глотая слезы, сообщает выстроенным поклассно ученикам и учителям о смерти «вождя всех времен и народов». С самого утра из черных тарелок репродукторов льется траурная музыка. Кто-то всхлипывает, кто-то рыдает в голос. Малыш, очевидно, сын кого-то из учителей, усиленно вертит головой, смотрит на плачущих детей и взрослых и, явно ничего не поняв, па всякий случай ревет во все горло, размазывая по щекам сопли и слезы. Пришлось срочно увести малыша, дабы не мешать траурному, больше напоминавшему спектакль, мероприятию — ведь в тесном школьном зале стояли почти сплошь дети «врагов народа».
Но ни траурная обстановка, ни подчеркнуто-горестный вид учителей, ни даже страх перед Ольгой Ивановной — ничто не заставило бы меня в этот момент выжать из себя слезу. Я, будучи ребенком, не способным еще в полной мере осознать весь смысл случившегося, все же чувствовала сердцем, что наконец-то произошло то чудо, которого так долго ждали мои родители и которое могло перевернуть всю нашу жизнь, жизнь всего народа.
Наш 4-й класс — почти сплошь «враги народа». Много переростков, я одна из них. Все мы на собственной шкуре ежедневно испытывали «любовь и заботу» «великого и мудрого отца». И кончина кровожадного монстра, который у многих — не скажу, что у всех, -ассоциировался с Саьрмаком из сказок Сайд-Али, не так уж и потрясла нас, основную массу «врагов».
Хотя, уже будучи взрослой, я узнала, что даже многие чеченцы тогда растерялись. Наша интеллигенция, бывшие партийные и советские работники, ученые, писатели и артисты много писали Сталину, добиваясь реабилитации чеченцев и ингушей, доказывая невиновность ваинахов в приписываемых им злодеяниях, подводя под это доказательную и законодательную базу. И вдруг все рушилось! Кто теперь придет к власти?
Между тем Ольгу Ивановну почему-то именно мои «непочтительно» сухие глаза потрясли до глубины души. Уже в классе, подойдя ко мне вплотную, она прошипела:
— Почему не плачешь?!
Обычно всегда тихая и почти робкая, я подняла на учительницу сухие глаза и громко сказала:
— Не буду!
В следующую минуту звонкая пощечина обожгла мне левую щеку. Звук этой пощечины и огонь, опаливший мое лицо, я запомнила на всю жизнь.
Даже днем в вагоне полумрак. Узкие зарешеченные окошечки под самой крышей почти не пропускают дневного света. От ледяных наростов на деревянных щелистых стенах вагонов веет смертельным холодом.
От нар к нарам, как тени, бродят, покашливая, укутанные далеко не в зимние одежды, а точнее, тряпьё, люди, вполголоса выясняя, кто еще не дожил до утра, чтобы успеть прочитать хотя бы отходную молитву «Ясин» над окоченевшим трупом, прежде чем его заберут солдаты.
И дети почти не плачут, несмотря на холод и голод. Может, оттого, что сил на это уже и не осталось. Запавшими глазами ожидающе смотрят они на матерей. Трудно смотреть матерям в эти голодные, полные страданий глаза своих детей. Единственное, что они могут сделать для них, — это попытаться согреть своим теплом их изможденные, грязные и такие хрупкие тела.
Иногда мужчины собираются вместе где-нибудь в середине вагона. Вместе пытаются разгадать, как, почему, за что они здесь.
Некоторые считают, что это какое-то чудовищное недоразумение, что все в скором времени выяснится и состав, конечно же, непременно повернут назад, домой, на Кавказ. Если, после очередного тупика, где меняли паровоз, состав начинал движение в обратном направлении, меняя ветку, люди ликующе передавали друг другу:
— Вот он, благословленный миг, все выяснилось, мы движемся к дому!
При всей своей мудрости и огромном опыте борьбы за выживание наивность моего народа была фантастической.
Некоторые были уверены, что их, скорее всего, как когда-то, в далекие 70-е годы прошлого столетия, везут на поселение в Турцию. Тогда десятки тысяч вайпахов «уговорили» уехать к братьям-мусульманам в Турцию, навсегда покинуть Кавказ. России нужен был Кавказ без кавказцев, и переселение чеченцев и ингушей в Турцию фактически было «добровольной» депортацией.
И потянулись повозки, запряженные буйволами, груженные нехитрым скарбом переселенцев — на юго-запад, в далекую Турцию, оставляя на обочинах дорог могилы близких, умерших в пути… В первые же пять лет переселения половина из них умерло от голода и болезней. А пытавшихся вернуться назад, на родину, поджидали на границах пули турецких аскеров или русских солдат.
…В 80-е годы довелось мне побывать в гостях у родственников, потомков тех «добровольно депортированных» чеченцев, в турецком городе Бейшехире.
Об этой депортации 120-летней давности турецкие чеченцы рассказывали не иначе, как со слезами на глазах — до сих пор больно. Сколько же времени должно пройти, чтоб мы забыли о депортации 44-го года? А о последних войнах в Чечне?
Прабабушка моего родственника умерла по дороге в Турцию. Ей было всего 20 лет, и ее четырехмесячный сын продолжал сосать грудь мертвой матери до тех пор, пока его отец, который шел впереди запряженных в повозку буйволов, не подошел к арбе, чтобы узнать, как там дела у заболевшей несколько дней назад молодой жены и у новорожденного сына.
Много нелегких испытаний ждало чеченцев на этой дороге к «лучшей доле». Незнакомые места, чужие люди, со своим образом жизни, законами, незнакомым языком. Часто возникала мысль повернуть назад, вернуться в родные горы, к густым лесам, к родникам, прозрачным, как слеза младенца.
И вдруг эти уставшие, изможденные путники увидели огромную зеленую поляну, родники и вдалеке — снежные вершины гор. Эта картина была так похожа на сказочно-красивые картины родного Кавказа! И старейшины решили: здесь будет город. И название придумали тут же — Байшахьар (Бейшехир), что означает, как говорят одни, город-поляна, город-трава (бай — поляна, шахьар — город). Другие утверждают, что это обозначает не что иное, как город-сирота (бай (мн.ч.) — сироты). Возможно, это просто легенда народа-сироты, оторванного от своих корней и, как перекати-поле, кочевавшего по всему миру, потому что возврата назад, на Кавказ, уже не было. Сирия, Иордания, Ирак, Египет и даже далекая Америка стали пристанищем для них, именно пристанищем, но не родиной — даже через полтора столетия…
— Много тогда наших погибло в дороге от болезней, несчастных случаев и просто от тоски по покинутой родине, — говорит старик с глубоко запавшими глазами и губами, синими, как будто из них уже ушла жизнь.
В вагоне этот старик был один, без своих близких. Солдаты задержали его, когда он шел в соседнее село на похороны к родственникам и, не разбирая, кто он и чей, затолкали в наш вагон. Поэтому старик ничего не знал о судьбе своей семьи.
Сердобольные женщины, обделяя собственных детей, пытались подкармливать старика — кто кусочком лепешки из кукурузной муки, кто кусочком высохшего домашнего сыра. Старик, с благодарностью приняв еду, потихонечку отдавал все их же детям. Он умер через несколько дней, шепча сам по себе отходную молитву «Ясин».
Самым грамотным человеком в вагоне был мой отец. Он с малых лет жил в Грозном, четыре года учился в русской школе, прилично говорил и читал на русском языке.
Что мог ответить отец старикам на вопрос: «по какому праву?». Он прекрасно помнил 1936-1937 годы, когда огромное количество ни в чем не повинных людей объявлялось «врагами народа», «предателями», «приспешниками империализма» и бесследно исчезало в застенках НКВД. Страшное время сталинизма не пощадило тогда, пожалуй, ни одной семьи.
В застенках сталинских лагерей в то время погибли не сотни и даже не тысячи, а миллионы безвинных людей самых разных национальностей.
В Чечено-Ингушетии только за одну ночь лета 1937 года было арестовано 14 тысяч человек из числа чеченцев и ингушей. Это был цвет нации — грамотные, образованные люди, государственные и общественные деятели, писатели и поэты, муллы. Многим из них никогда не суждено было вернуться домой.
Не минула сия участь и родственников моей матери. В одну ночь в Гойтах были арестованы ее дядя и четверо его сыновей. Из них через 22 года домой вернулся один из сыновей — Даша, бывший комсомольский работник. Говорят, в ту ночь в Гойтах почти не осталось мужчин, забирали даже престарелых…
Весна 1937 года. На буровой скважине Старых промыслов в Грозном произошел взрыв. Арестованы мастер по бурению и несколько его подручных, среди них — мамин брат, которому в то время и 16 не было. Из них долго выбивали признание в подготовке и организации террористического акта на промыслах. Выходит, термин «террорист» совсем не нов, и это вовсе не неологизм 90-х.
Мастера расстреляли сразу. О судьбе брата мамы многие годы ничего не было известно. Спустя 30 лет дядя сам нашел близких. Вся его молодость прошла в лагерях на Урале.
В июне 1941 года лагерное начальство, выстроив всех заключенных на лагерном плацу, объявило о начале войны с Германией.
— Родина дает вам шанс кровью смыть свою вину перед ней, встать в ряды ее защитников в штрафных батальонах, — закончив фразу, начальник лагеря побагровел.
Такая длинная речь оказалась страшно утомительна для него; в повседневной лагерной жизни в общении с заключенными он обходился несколькими словами:
— Стоять! Молчать! Отвечать! Смотреть!..
А отборный русский мат — это как приправа к основному блюду — как же без него?
Крик начальника лагеря страшно будоражит овчарок, которых держит на поводках охрана, окружившая плац. Они, даже не с лаем, а с каким-то хрипом, рвались с поводков, злыми глазками впиваясь в заключенных, и ждали только команды «взять!».
И они дождались ее, но позлее.
— Тот, кто желает кровью смыть свой позор и свою вину перед Родиной, шаг вперед! — прозвучала команда.
По лагерю разнесся глухой, как единый выдох, звук, который тут же отозвался эхом в окружавшем лагерь мрачном вековом лесу — почти вся шеренга зеков шагнула вперед. На месте осталось десятка два заключенных, не пожелавших признать своей вины и тем более позора перед Родиной — вины и позора, которых у них перед Родиной, действительно, не было. В числе этих непокорных был и мой дядя. На оставшихся на плацу лагерников, отказавшихся стать пушечным мясом в штрафбатах, по приказу начальника спустили овчарок. Затем окровавленные тела несчастных, вернее, лохмотья из тряпок и человеческого мяса — кого за руки, кого за ноги — волокли по плацу. Брошенные в каменные мешки-карцеры, они и там еще долго истекали кровью. Выжили единицы. И после этого несчастные подвергались нечеловеческим пыткам. Вследствие этих пыток здоровье моего дяди оказалось настолько подорвано, что у него уже никогда не было детей. Но зато был трибунал, и новый срок тоже был.
Дядю спасло то обстоятельство, что теперь стране нужно было много горючего для машин, танков и самолетов, а значит, нужны специалисты по добыче и переработке нефти. Вот тут и понадобился, пусть небольшой, опыт работы дяди на нефтепромыслах. Здесь, на Урале, в Татарии, была нефть. Именно в Татарии провел мамин брат всю свою оставшуюся жизнь и умер, не дожив до своего 50-летия и не оставив потомства…
Но вернемся в 44-й год, в леденящую стужу вагона…
Ни при каких обстоятельствах не теряющий присутствие духа, не отчаивающийся в самых сложных жизненных ситуациях, народ на ходу слагал песни с оптимистическим финалом, притчи и анекдоты. В каждом вагоне находился такой остряк, который, несмотря ни на что, своими шутками, остротами пытался поднять дух земляков. До сих пор передают друг другу остроту одного такого шутника, который сказал:
— Ma чехка йоьду хьо, ц1ерпошт, д1акхаьчча цигахь сан доцучу г1уллакхе хьаьжча!
(Смысл примерно таков: Как же быстро, поезд, ты мчишься, учитывая, что по приезду лично мне там абсолютно делать нечего!)
Все разговоры в вагонах обычно заканчивались назмами — религиозными песнопениями. Многие старики когда-то учились в школах при мечетях — хьуьжрах и знали множество назмов. Собравшись вместе, они вполголоса пели, уводя мысли от ужасной и такой несправедливой действительности. Их стройные голоса, разбившись на первые и вторые, вели назм так задушевно и проникновенно, что женщины начинали рыдать в голос.
Стариков почти всегда сменял молодой человек с дечиг-пондуром, который хрипловато-простуженным голосом исполнял чеченские илли. Старики часто просили его исполнить илли про Турпала Нохчо, мужественного богатыря, от которого, по преданию, произошли нохчий.
Как искры сыплются от булата,
Так мы рассыпались от Турпала Нохчо.
Родились мы в ту ночь,
Когда от волчицы родятся щенки,
Имена нам были даны в то утро, Когда ревел барс.
Такими произошли мы от предка нашего —
Турпала Нохчо!
Недаром говорят — чеченцы раны лечат песней. Именно песни помогали моему народу переносить физические и нравственные страдания в долгие годы ссылки. А еще говорят, что в день высылки в тех домах, где были музыкальные инструменты, люди брали с собой именно их. А были они во многих вайнахских домах, потому что в воспитании детей, особенно девочек, не последнее место занимало музыкальное образование. Практически все девушки стремились обучиться игре на национальной гармонике, а те из них, кто в совершенстве овладевал этим искусством, пользовались в народе широкой известностью и уважением. Вот почему во многих семьях в первую очередь люди брали самое ценное в их понимании — музыкальные инструменты.
Несмотря ни на что, при малейшей возможности, по малейшему поводу в самые трудные годы ссылки чеченцы устраивали синкъерам или ловзар, с песнями, танцами, играми, шутками, поучительными речами тамады (как правило, уважаемого старика).
И это помогало выжить.
/Дети униженного детства/
Местом ссылки, во время всеобщей депортации чеченского народа, для нашей семьи стал казахский аул Сары-Су, что в переводе с казахского означало «водный канал». Разумеется, никакого водного канала в сухой безбрежной казахской степи не было и в помине. Воду брали из артезианского колодца. И воду эту, имевшую горьковато-соленый привкус, пили и животные, и люди. Мы, дети гор, привыкшие к чистым родниковым источникам, долго не могли заставить себя пить эту воду. Но другой-то не было.
В жаркие летние месяцы колодец буквально высыхал. В это время особенно сильно от жажды страдали животные, потому что речной воды, привезенной на подводе в деревянных бочках откуда-то издалека, едва хватало для питья людям.
Тогда на окраину аула выходили аксакалы, читали молитвы, резали жертвенного барана и просили Аллаха о великой милости — ниспослании на потрескавшуюся от засухи землю дождя.
Сары-Су — это десятка два вросших в землю домиков-кибиток, подслеповато смотревших на мир глазницами окон, представлявших собой просто куски стекла, вставленные прямо в глинобитные стены, безо всяких намеков на оконную раму, и несколько юрт овальной формы, покрытых темным толстым войлоком. Вот и весь аул.
Уже и март наступил, а морозы такие же жестокие, как и в феврале, и бураны так же сбивают с ног. От далекой станции к месту предписания нас вез на телеге, запряженной быками, пожилой казах в длинном, до пят, овчинном тулупе, одетом поверх стеганого теплого халата и овчинных же штанов, сшитых мехом вовнутрь, валенках, а на голове его красовался огромный треух из лисьего меха.
Одежда родителей разительно отличалась от одежды аксакала. Отец — в коротком суконном полупальто, в котором он на работу ходил, и в сапогах. А мать и вовсе без пальто, в душегрейке (так называли стеганую безрукавку) и большом шерстяном клетчатом платке-кортали, который тогда многим вайнахским женщинам заменял пальто.
А о валенках на Кавказе тогда и понятия не имели. Была, конечно, теплая обувь — бурки. Это такие сапоги, которые делали местные мастерицы из вяленой шерсти, отороченные кожей.
Привыкший к теплому южному климату народ с расчетливой жестокостью бросили в самые суровые морозы в степные пустыни Казахстана, обрекая тем самым на смерть, в первую очередь, самых беззащитных: детей, стариков, женщин. Именно в эту первую зиму погибло около половины спецпереселенцев. Да и может ли выжить орел с обрубленными крыльями, может ли зазеленеть дерево, лишенное корней?!
Все коренное население аула собралось посмотреть, что это за «враги народа» такие, которых из очень далеких мест привезли. Ходили слухи, что эти «враги» — не обычные люди, а с рогами, и даже, говорят, людей едят.
Увидев самых обыкновенных, изможденных и окоченевших от холода людей, на руках у которых были маленькие дети, эти сердобольные люди тут же принесли хворост и кое-какую еду. Все это, вместе с нашими скудными пожитками, занесли в крохотный глинобитный домик, который состоял из одной комнатки и в котором отныне нам предстояло жить.
В этот день, впервые за двадцать с лишним дней пути, наша семья, греясь у огня, наслаждалась горячей пищей.
Все мамины золотые украшения пошли на плату за домик, продукты и самое необходимое в хозяйстве. И мамины необыкновенные золотые сережки до плеч я больше никогда уже не видела.
Пройдет достаточно много времени, прежде чем отцу удастся добиться разрешения на переезд в перспективный рабочий поселок Кара-Тау, что в переводе с казахского означало «Черная гора». Благодаря строящемуся фосфородобывающему комбинату, поселок расширялся, застраивался новыми домами. Ко времени нашего переезда туда в поселке было аж две семилетние школы: одна имени, само собой разумеется, Сталина и вторая — имени Карла Маркса. В школе имени Сталина учились дети спецпереселенцев и дети всех русскоговорящих местных жителей. Здесь обучение велось на русском языке.
В школе имени Карла Маркса обучение велось па казахском языке, и учились там казахские дети.
Чтобы выжить, спецпереселенцам нужна была работа. А в поселке работа была: на стройках, на самом химкомбинате, в гараже, на товарных дворах.
Многие дети спецпереселенцев, подростки одиннадцати-двенадцати лет, оставшиеся без родителей, или родителей которых подкосили болезни, не в школы ходили, а на стройках работали. Они носили такие тяжелые носилки с кирпичами и цементным раствором, что не всем взрослым-то были под силу в это голодное время. Уму непостижимо, как эти худенькие дети, с тонюсенькими ручками и ножками, подгибающимися под тяжестью непосильной ноши, наравне со взрослыми отрабатывали рабочие смены. Многие из них таким образом кормили младших сестренок и братишек, чтобы не отдавать их в детские дома. Временами такую «милость» государство оказывало: детей забирали в детские дома и приюты, для того чтобы вырастить из них, в конечном итоге, манкуртов, не помнящих, кто они и откуда. СССР, по сути, был кузницей, и ковали там манкуртов, общественных людей, лишенных собственного «я», по приказу партии способных принести в жертву во имя коммунизма жизнь любого человека, даже собственных родителей. По сути, как на конвейере, штамповались павлики Морозовы.
Многие народы, в частности, представители малых народов Севера, в период коммунистического правления практически полностью утратили свою национальную культуру, забыли родной язык, лишились собственных имен и фамилий. А более ста народов бывшего СССР вообще исчезли — вымерли или ассимилировались.
Процесс зомбирования был налажен четко: с ранних лет детям внушали мысль о том, что у них у всех одна-единственная большая Родина-Мать — СССР, что их единственная цель и смысл жизни — служение делу коммунизма. «Вожди революции» были возведены в ранг идолов, которым поклонялись с безумством фанатиков. А «мудрого и ласкового отца» — товарища Сталина — народ неустанно благодарил за «счастливую» жизнь, и любить его следовало больше, чем отца и мать, больше собственной жизни.
…В нашем 3-м «А» классе появился новый ученик. Этакий крепыш, с манерами, на которые девчонки, любимицы Ольги Ивановны, сразу обратили внимание. Коля при появлении учителя вскакивал, вытягиваясь в струнку, здороваясь, резко наклонял голову, входя в класс, обязательно пропускал вперед девчонок. Выяснилось, что Коля какое-то время учился в суворовском училище. Его отец, офицер-фронтовик, попал в окружение, а затем — в плен. Из плена бежал с товарищами, перешел линию фронта, добрался до своих — и, как водится, лагерь для военнопленных на чужбине сменил на Карлаг на родине. История банальная, типичная для страны, которая была одним большим концлагерем. Колю из училища отчислили и вместе с мамой отправили на поселение в Казахстан.
Эта история примечательна не фактом отчисления Коли, и даже не фактом выселения пи в чем не повинной семьи из Москвы, а отношением сына к судьбе родного отца и его оценкой всего произошедшего. Трагизм ситуации был в том, что десятилетний ребенок, яростно отмежевываясь от родного отца, во всеуслышанье награждая его эпитетами «трус», «предатель», «фашист», был искренне убежден в мягкости наказания для него:
— Я бы его расстрелял! — сказал как-то Коля, сжав кулак и выставив вперед указательный палец, как дуло пистолета.
Не сомневайтесь, он бы это сделал. Подрастала «достойная смена» Павлику Морозову.
…В 80-е годы, будучи в командировке в Ведено, я познакомилась с женщиной-чеченкой, которой в 44-м году было всего два года, а ее младшей сестричке в то время не было и года. Их родителей, как и десятки тысяч других спецпереселенцев, погубили голод и болезни, а маленькие сироты были отправлены в детский дом. За годы их пребывания в детском доме воспитатели постарались сделать все, чтобы девочки не узнали, кто они есть на самом деле, кем были их родители, о том, где их настоящая родина.
Но когда сестры, уже будучи взрослыми, узнали правду о своем происхождении, они, не раздумывая, отправились на родину, в Чечню. Там они выучили чеченский язык и добились, чтобы в пятой графе паспорта у каждой из них вместо «русская» было записано «чеченка».
Пусть через десятилетия, они все же вернулись на Кавказ — зов крови оказался сильнее внушаемых лживых идей коммунизма, идей, уничтожающих личность.
Машина, штампующая манкуртов в соответствии с методами «энкаведешной» педагогики, дала сбой.