Днем мысли старухи рассеивались. Может, это было из-за того, что они расплывались с лучами греющего все больше и больше с каждым днем солнца. Лучи разбегались на все видимое и невидимое полуслепыми теперь глазами, от того, кажется, и отбивало у старухи разум с памятью. Жизнь в последнее время, ей казалось, состояла только из ночей: теперь только ночами могла она собраться с мыслями.
Она, притягиваемая землей, как и наполовину вошедшая в землю колода, на которой кололи дрова, сидела, положив голову на руки, которыми держала палку, стоящую между ног……
Из-под чухты, завязанной под платком, выбилась непослушная для неловкой старушечьей руки редкая прядь седых волос, которую качал теплый весенний ветер. Солнце согревало по-детски легкое, как перо, тело, и ее клонило ко сну. Она так много слушала и смотрела в себя, что зрение ее и слух ослабли, но люди удивлялись, как она, глухая, могла догадываться о том, что ей говорили. Заслоняясь от солнца рукой, кажущейся в лучах розоватой, она поднимала на подошедшего глаза, затянутые красным облачком. Дети, играющие даже в голодное и нищее время, оказавшись около нее, пере ставали играть, старуха в коротком жесте поднимала руку, дети по очереди подставляли головы под ее руку, чтобы она погладила.
Лачуга старухи была наполовину вырыта в земле. Рядом с нею было подобие маленького курятника, в который садилась одна курица, не курица, а молодка, которую кто-то принес старухе. Что она молодка, старуха поняла тем же, чем понимала речь, хотя едва слышала. В последнее время курица одичала. Хотя старуха и сыпала ей зерна из своего заката1, курица, как и люди в голод, была беспокойной. На ногах ее выросли перья, словно она надела штаны, поклевав зерно, насыпанное ей утром, она пропадала с глаз до тех пор, пока вечером не садилась в курятник. В начале весны на них напали солдаты, которые сожгли село, а люди две недели провели в лесу, вот тогда курица и одичала. Теперь, когда показывался всадник или бегущий человек, она всполошено взлетала и с громким кудахтаньем скрывалась из виду.
Лачуга старухи была настоящим курятником, в ней нельзя было бы перезимовать. Но большего все равно и не нужно было: солдаты снова придут — когда будет созревать зерно, после созревания, придут и зимой.
Сады… Садов много лет нету. Не село, а эти лачуги-курятники. Солдаты больше приходят рано утром — поднимается тревога, женщины, дети, старики, угоняя скот, уходят далеко в леса, мужчины остаются, чтобы, отступив, часто нападать на пришедшие русские войска. Теперь у людей нету скота: коров, овец их — поглотила война. Курица ведь не скот.
И раньше у старухи была вырытая односельчанами землянка. Ее сожгли, угли и пепел лачуги остались в яме; чтобы еще и унизить, солдаты обгадили эту яму-«могилу», поэтому новую землянку пришлось вырыть в другом месте.
Мужа и детей старухи унесла война, родственники со своим селом были насильно переселены за Терек внезапно напавшими русскими. Так как родственников не стало, село опекало ее, когда нападали войска, хотя она просила оставить ее — высохший сгорбленный обрубок, ни к чему не пригодный, разве только для вслушивания в себя. Когда она так обнаруживала себя еще нужной людям, из ее глаз скатывались слезы, но люди не знали: всегдашние они, которые стояли в ее глазах, или набежавшие новые.
Их в семье было восемь девочек, без мальчика. Она была младшей. Может, от того, что мать с отцом очень хотели сына, она с детства не выносила, когда ее называли девочкой, и до последнего, пока не обрела девичье обличье, — ничего девчоночьего не носила.
Переодевшись в мужское, она ушла на войну — девушка, которая родилась вместо парня. Одежда и кинжал были приготовлены заранее, кремневое же ружье было отцовским, взятым, когда он на три дня пришел с войны, — отец был стар ему не было бы стыдно остаться дома: он ходил на войну и за народившихся сыновей тоже.
Пешая, она в первом же бою стала всадницей. Нашла и друга. Он был старше лет на десять, и, как старший, берег ее в бою. Удивляясь ее гладкому лицу, товарищи, смеясь, говорили, что с человеком, у которого не растет волос на лице, нельзя иметь куплю-продажу. «Я же с вами и не веду купли-продажи», — говорила она, краснея. Но у нее были и несомненные признаки парня: шрам на щеке от ушиба в детстве и круглые шрамы в углублениях обоих больших пальцев рук, где она дольше всех мальчишек в округе держала горящие древесные угольки. В этом она превзошла их.
Однажды, когда ее ранило, обнаружилось, что она не мужчина. Когда рана зажила, она вышла замуж за бывшего друга.
И она стала ждать мужа, который иногда приходил с войны, уставший и оборванный. Пока один ребенок начинал ходить, рождался другой, — так она родила четырех сыновей.
Хотя в то время и жгли села, но лет двадцать после Ярмола не так много жгли. Не то, что не жгли, русские войска в войну всегда жгли села, но тогда вся война не была, как сейчас, направлена только на уничтожение и разорение сел.
К этому времени ее муж с высохшим лицом уже казался пожилым, но, как растущие от корня дерева молодые побеги, четверо сыновей тянулись к его оружию, когда он возвращался домой.
Старший сын сильно хотел стать взрослым. Каждое утро он мерил себя у чинары, росшей за домом, чтобы посмотреть, не вырос ли. Делал он это в тайне от троих младших братьев. Для них-то он и так был большим…
Раньше люди с рождением каждого ребенка сажали грушевое дерево. Погубившего грушевое дерево суд приговаривал к смерти. Теперь люди больше не сажали деревьев — войска без разбора срубали и жгли и фруктовые деревья, и целые леса. Если не считать диких, люди давно забыли фрукты, тяжелые от меда пасеки… Матери забыли произносимые при рождении сына слова: «Пусть ты, легкой рукой поглаживая седую бороду, похоронишь свою мать»…
Однажды "ей захотелось сказать сыну: дерево тоже растет, и оно уносит вверх отметку, которую ты сделал. Но не сказала, не хотела смутить его. Да и сам он, наверно, знал об этом. То, что он выбрал чинару, казалось ей важным: о видном человеке говорят, что он как чинара…
Привязав уздечку к луке своего седла, отец однажды привел сыну еще лошадь для нужд дома и чтобы вспахать клин', скрытый от врага в лесу. Раньше лошадь, на которой пахали, не оседлывали, теперь пахали и на лошадях, на которых воевали.
Потом, когда убитого отца привезли домой, старший больше не подходил к чинаре, на следующий день она обнаружила, что сын ее стал воином. Когда сын, дав пройти времени после короткой панихиды, снарядив коня, выходил из дома с оружием, у нее упало сердце. «Мой маленький мальчик, я только вчера подняла тебя из колыбели, сойди с отцовского коня, чуть подрасти!» — хотелось ей крикнуть. Но это унизило бы его достоинство… О таком люди узнают и не услышав.
Медленно повернувшись, она вынесла саблю, ощущая на ней тепло рук мужа, двумя руками передала сыну. Чтобы получше видеть его, отступила на шаг.
Сын тронул коня и ни разу не обернулся, как отсеченный судьбой от дома. Слезы душили ее, она вытерла две слезы, сбежавшие по белым щекам концом черной чухты, повязанной под платком.
На углях, где раньше была калитка, притихшие, стояли трое братьев рядом друг с другом, младший был без штанов, с подвязанным деревянным кинжалом, выстроганным вчера вечером старшим. Он кинулся было за братом, но старший, поймав его за подол старой рубахи, которую носил и он, остановил его…
И эти трое тоже стали примеряться у чинары. Однажды, когда поднялась тревога и люди ушли из села, дерево сгорело, наверное, от огня подожженного стога сена, враги не сожгли бы сырую чинару, они бы срубили ее.
Потом, когда она, как получивший удар прутом в глаз, еще кружилась после похорон убитого сына, ушел и второй.
Четвертого, младшего, убили раньше третьего.
Все на земле выжигалось, поэтому с фуражом стало плохо, последний сын поручил привести свою лошадь из войска. Дела сельчане делали сообща, и она передала лошадь селу.
Иногда, когда мысли ее, как казалось старухе, становились совсем негодными, к ней приходила богопротивная мысль: сыновья погибли, потому что сожгли чинару… Потом, вспомнив, что первого убили до того, как сгорело дерево, она говорила себе, что это неправда…
Последнее время для старухи не стало боли в этом мире, хотя она и помнила точно, с каких пор. Она прикрывает веки и играющие в ее незрячих глазах солнечные лучи стирают в памяти лица мужа и четырех сыновей, остальное она помнит, ей от этого ни хорошо, ни плохо. Лучше всего она помнит свою одичавшую курицу, наполовину врытую в землю лачугу, рядом с нею крохотное подобие курятника, у которого хватит «достоинств» лишь на то, чтобы в него могла сесть одна курица, угли, перемешанные с землей, большие угли в яме, над которой раньше была сколочена лачуга, — ей кажется, что ее последнее сознание, в котором играют лучи солнца, немедленно поднимается над всем эти.
Голые дети с улицы убежали домой, чтобы сказать, что от старухи вверх поднимается яркий свет…
С чеченского.
Перевод автора

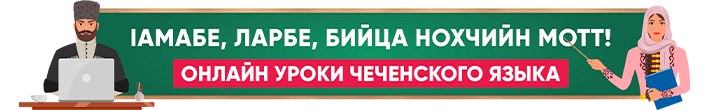


Я надеялась что книга будет именно на чеченском… Посему на русском?? Вообще, есть ли книги на чеченском языке???