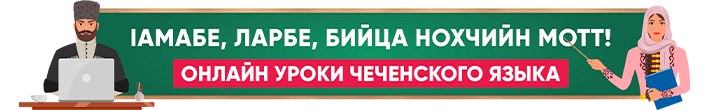-Послушай бабушку, — сказала однажды моя старая хозяйка.
— Эдалха — очень хороший человек. И семья у него неплохая. С ними можно породниться. Правда, их дочку я не знаю…
— Что за девушка? Какой Эдалха?
— Она говорит о Кулсам Сингириевой, — сказала Седа, внучка моей хозяйки, словно о деле законченном.
Я рассмеялся, поняв, что по селу на этот счет уже поползли слухи.
— Послушай бабушку, — сказала однажды моя старая хозяйка.
— Эдалха — очень хороший человек. И семья у него неплохая. С ними можно породниться. Правда, их дочку я не знаю…
— Что за девушка? Какой Эдалха?
— Она говорит о Кулсам Сингириевой, — сказала Седа, внучка моей хозяйки, словно о деле законченном.
Я рассмеялся, поняв, что по селу на этот счет уже поползли слухи.
***
Вернувшись домой после работы, я неизменно садился писать письмо Малике.
Рассказывал ей о здешних людях, о своих учениках, о своих уроках.
Мне не спалось.
Я подолгу сидел во дворе, под большой яблоней.
Сад был большой, деревья были старые, и оттого ветки были совершенно черного цвета.
И ночи были странные, полные тишины, с темным лесом вокруг. Днем деревья становились необычайно красивыми.
До слез, до смеха,
До безумия —
Прекрасен тополь на холме! (4) —
примерно так я передал бы это.
***
Старушка после вечерней молитвы всегда ложилась спать.
Ее внучка долго засиживалась. Она делала вид, что доделывает какие-то домашние дела, а потом, как только я ложился спать, садилась читать, прикрыв чем-нибудь лампу.
— Седа, что ты читаешь? — спросил я однажды вечером, вернувшись из школы.
Девушка в это время была в саду. Сидела, медленно раскачиваясь на качелях, и читала. Она быстро соскочила с качелей и оправила платье. Посмотрела на меня, словно видит впервые, и спрятала книжку за спину.
— Покажи, — сказал я, улыбнувшись.
Она протянула мне книжку. Это была «Пармская обитель» Стендаля.
— Интересная книга? — спросил я, делая вид, что не читал ее.
Она пожала плечами, сделала движение губами, словно говоря: «Так себе».
Ей было семнадцать лет, а эта осень в ее жизни была восемнадцатой. Среднюю школу
Седа окончила в Ножай-Юрте.
— Почему ты не поехала учиться? — спросил я как-то.
— Мама не пустила.
— А отец?
— Умер… четыре года назад… Когда двоюродный брат закончит десять классов, мы вместе поедем учиться…
— А он где?
— Он в Гудермесе, там живет мой дядя…
***
В течение месяца я рассказал детям все, что знал и чему научился. Я не знал, чему
их дальше учить. Я не знал, что такое «тематический план», а если бы даже и знал, у меня не было никакого желания строить урок в рамках этого самого плана.
Детям я рассказывал содержание различных произведений русских и чеченских авторов, выбирая все, что мне нравилось.
Дети меня полюбили. Когда случалось, что повышу на них голос, они на меня обижались. А девчонки сразу же начинали плакать, словно взрослые девушки, молча.
Они все как будто заболели болезнью Кулсам.
Иногда в школу приходили матери моих учеников: «Дочка дома без конца рассказывает о тебе, и вот я решила прийти и посмотреть… Приходи к нам, поужинаешь, познакомишься с мужем…» Я не принимал предложений. Стеснялся идти к незнакомым людям, я не знал, о чем с ними говорить. Кроме того, после таких визитов я мог стать обязанным этой семье: и замечание ребенку не сделаешь, и двойку в этом случае ставить как-то не с руки, хотя двойки я и без того ставил редко.
— Джабраил, разве недостаточно той работы, что ты выполняешь в школе?-спрашивала моя старая хозяйка, когда дети приходили ко мне домой.
Обычно я с ними сидел во дворе, в саду. Иногда мы ходили по селу, и дети откуда-то таскали для меня фрукты.
Когда наступил октябрь, я вдруг затосковал так, что готов был бежать оттуда с воем.
У меня не было ничего, кроме школы и квартиры со старушкой. Красивая природа, окружавшая село, мне уже надоела. Правда, были длинные, бессонные ночи и редкие письма Малики, в которых, кроме сообщений о комитете, комсомоле и общественной работе, ничего больше не было.
Я очень злился на Малику, которая, как мне казалось, шаталась по всему городу, отправив меня к черту на кулички.
Я попросил Сайпуддина привезти из районной библиотеки несколько десятков книжек и пудовую гирю.
Правда, с электричеством были проблемы, а читать при керосиновой лампе я не мог — глаза быстро уставали и наутро, посмотрев в зеркало, я замечал, что они у меня
становились красными. До тех пор, пока не сморит сон, я читал (а Седа продолжала читать и после того, как я ложился спать), потом до полного изнеможения поднимал гирю — по сто раз каждой рукой.
Однажды поздней ночью, выскользнув из моих рук, гиря упала на пол. Грохот был такой, как будто пальнули из пушки, а на полу образовалась огромная пробоина.
«Ва Аллах! -услышал я крик. — Мусульмане, на помощь!» -старушка в длинном платье для молитвы, босая, заскочила в мою комнату.
Седа пыталась ее остановить.
— Мой дом… Мой дом не клуб, мой дом — место, где живут люди… Отойди от меня и ты тоже! — прикрикнула старуха на внучку, пытавшуюся ее остановить.
— Бабушка, — сказал я, — ты слышала о рае, говорят, он из золота и серебра? Вот такой будет твоя комната завтра, не переживай…
— Мне не нужен рай, мне нужна моя комната, в которой я… в которой…
— Остопируллах, бабушка, не говори так, как можно не любить рай? — произнес я, а старушка, оставив меня стоять на месте, повернулась спиной и ушла, что-то бурча себе под нос.
Было далеко за полночь, а та продолжала что-то бубнить.
Я слышал и голос Седы, пытавшейся урезонить бабушку. Старушка не дала мне починить пол так, как я задумал, — удалось заменить только одну доску.
Седы нигде не было видно. Она убежала. Я и не спрашивал о ней.
Увидел ее на третий день. Девчонка старалась не смотреть в мою сторону. Она даже не поздоровалась.
— Я отгородила нашу комнату простыней… можешь спокойно входить к себе и выходить, — сказала она, когда я возвращался с работы домой.
— Где ты была? — спросил я ее.
— Нигде, — она даже не посмотрела на меня.
— Джабраил, не расстраивайся, пожалуйста, я раскаялась в своем поступке, — сказала мне старушка через неделю, — да И Седа на меня обижается… — было видно, что хозяйка растеряна.
— Да ладно, бабушка, о чем ты говоришь, мы же с тобой не чужие люди! — громко рассмеялся я, крепко обняв ее.
А Малика так раздула это событие, каждый раз напоминая о том, что попросит папу послать мне вагон досок и два вагона гвоздей: ей не о чем было писать мне, поэтому она с готовностью ухватилась за эту тему.
Мои письма большей частью отправляла Седа: всегда с трудом просыпавшийся по утрам, я не успевал это сделать. Иногда, вернувшись с работы, я находил на своем столе и
Маликино письмо. Быстро перекусив, я садился писать ответное послание. Тогда у меня появлялось непреодолимое желание поехать в Грозный, чтобы прогуляться с Маликой по улицам. Я иногда подбирал слова, которые собирался сказать ей, придумывал шутки.
Однажды я все-таки съездил в город. Это было в воскресенье — к субботе я не успевал, пришлось бы переночевать в Ножай-Юрте, а в райцентре знакомых у меня не было.
Малика вышла ко мне в домашних тапочках, накинув на себя что-то легкое.
— Что это ты? — сказал я. — Разве мы не уходим?
— Мама заболела, — сказала она, — и времени нет… как во время учебы…
— Что значит — нет времени?! А больной должен находиться в больнице! Сколько времени прошло с тех пор, как мы с тобой не виделись, давай ненадолго сходим в город.
Я заметил, как Малика кому-то кивнула, быстро выпрямившись.
Посмотрев в сторону, я заметил это «нечто» с экфака, зовущееся Русланом.
— Это что же такое? — сказал я. — Почему он не подойдет и не поздоровается, разве он не мужского пола?!
— Мы же в одном доме живем, Джабраил, ты же знаешь… Ну, чтобы не мешать нам…
— Что значит не мешать?! Ну, хотя бы пожелал нам чего-нибудь, как это обычно у нас говорят… Да ну его… Оставим… Что нового в городе, видела наших?
— Лолита бывает часто. Ой, она так рада, что ты туда по ехал! Она говорила, что видит твоих братьев в школе. Ты с тех пор и домой не ездил?
— Одну ночь я провел дома, когда приезжал в прошлый раз, ты была в Куларах. Я не успеваю. Из этого села двадцать километров надо тащиться в Ножай-Юрт, потом — в город, отсюда — к себе в село…
— Малика, — услышал я крик сверху, — быстро домой!
— Что это она? — спросил я.
— Ей процедуру надо… Джаб…
— Та женщина, что сейчас крикнула, не больна.
— Джабраил, на работе еще можно… дома… у меня дел много. .. понимаешь меня…
— Понимаю, — сказал я, — понимаю, ты, девушка, хотела сказать: «Гуд бай!»
— Ну, на некоторое время, — Малика засмеялась.
— Иди, — сказал я, — однажды, если позволит Аллах, я заставлю твою мать тосковать по дочери.
Малика застыла на мгновение, подавив смех, и настороженно посмотрела на меня.
— Что-то не так? — спросил я.
— Ничего… просто… доброго пути… тебе, — она заглянула в мои глаза издалека, словно обнаружила когда-то давно потерявшуюся и уже забытую вещь.
***
Два часа, запланированные на прогулку с Маликой, я бродил по городу и с трудом успел на автобус. Было уже поздно, когда машина въехала в село.
Бабушка спала. Седа сидела за моим столом в моей комнате. Увидев ее, мне показалось, что встретил родного мне человека. Девушка быстро выскочила, уронив книжку, это было «Воспитание чувств» Флобера.
Когда она вернулась с ужином, я спросил:
— Тебе нравится Флобер?
— Я читаю этот роман, — она открыла книгу, лежащую на столе.
— Как читаешь… разве ты не закончила читать?
— Я его несколько раз прочла…
— Он так хорош?
— Окончание у него хорошее, да и сам роман…
— Ты читала Дюма?
— Эти сказки… читала…
— А Гюго?
— И его… он какой-то…
— Какой роман тебе еще нравится?
— «Овод», — сказала она.
— А из поэтов? — спросил я.
— Блок…
— Как Блок? А Пушкин, Есенин, Лермон…
— Мне кажется, что у него боль… у него какая-то боль… в каждом его слове… как
будто он не человек из плоти, а дух…
— А из чеченских поэтов… ты кого-нибудь читала?..
— Некоторых… отдельные строчки…
— Какие строчки?
— Я забыла, — она быстро отвернулась, пряча от меня глаза.
Я ее не понял, вернее, не понял ее жеста.
— Принести тебе чай? — спросила она у самой двери.
— Не надо, — сказал я, взглянув на стоящую ко мне спиной девушку.
«Что происходит с девчонкой, — спросил я сам себя, — с этой соплячкой? Да, мне надо уходить отсюда. Надо найти другое жилье».
В тот вечер, налив в лампу керосин, я сел писать поэму. Лавры Байрона давно не давали мне покоя, поэтому я решил поставить ему «мат». Я сначала хотел припугнуть его «шахом», а потом торжествующе сказать ему: «Вот тебе и мат, Байрон!» Итогом торжества должен был стать написанный уже мной «Чайльд Гарольд».
Моя поэма называлась «Дикое сердце». К утру я написал четыре строчки:
Однажды тоска, обняв твою душу,
Просит помощи у встревоженного сердца.
Не сумев вернуть минувшие дни,
Разум плачет, рыдает, делая виражи.
Мне понравились эти строки — в них были грусть, тоска в сердце, взывающее о помощи.
Через несколько таких ночей в соседней комнате снова поднялся шум — причина была в лампе, ночи напролет горевшей в моей комнате.
«Я плачу за это деньги… у меня нет для него столько керосина. ..» — кричала старуха.
«Бабушка… о чем ты говоришь… не надо… услышит ведь… я много, сколько тебе нужно…»
«Не надо мне твоего керосина, оставь меня… моя пенсия… — все больше выходила из себя старушка… — и ты, и он!..» -продолжала она кричать на внучку.
Два бочонка керосина привезли по моей просьбе на второй день из райцентра.
Когда бочки выгрузили, взгляд Седы словно застыл. Старуха же пыталась что-то говорить. Я старался делать вид, что ничего не произошло, больше обычного смеялся, говорил, что нужно привезти дрова, пока зима не наступила, сообщил, что мне в школе должны выдать уголь…
Седа в тот вечер снова куда-то пропала. Старушка тоже ушла, придумав какую-то причину: она отправилась за Седой.
Я целую неделю таскал для старушки воду, колол дрова, ходил в магазин за покупками.
Я научился растапливать печь, чистить стекло для лампы. Оказывается, с помощью газет это самое стекло чистится превосходно. Для этого надо свернуть газету и долго крутить внутри самого стекла.
Однажды вечером, поставив тазик на стул и засучив рукава, я стирал рубашку.
Вдруг я увидел Седу, издалека наблюдавшую за мной. Я улыбнулся, справляясь о ее здоровье, взглянул на нее долгим взглядом: каждый раз, когда я спрашивал о Седе,
старушка неизменно отвечала, что внучка больна и находится в постели.
На голове у нее был теплый платок, завязанный под подбородком, руки она держала в карманах, а глаза девушки были широко открыты.
«Ты все еще ребенок, — подумал я, — большой ребенок».
— Отойди, — сказала она, направившись в мою сторону и снимая куртку.
Мне снова захотелось убежать, оставив и это село, и эту школу.
Увидев эту девчонку, я сам себе показался слишком взрослым, заметил ее глаза, то, как она стоит, ее взгляд в мою сторону, такой далекий и в то же время близкий, забирающий всю мою душу и мысли.