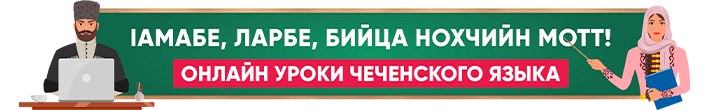Благодарим нашего пользователя, который предоставил данный материал. Дела рез хийла. Ларамца.
Это же была не шутка
Муса Бексултанов
… Нет, друзья, это была не шутка, совсем не шутка: тебе всего двадцать три, у тебя в кармане диплом об окончании университета, и твои волосы треплет ласковый ветер, а она ими восхищается…
— У тебя красивые волосы, — говорила она, откидывая голову назад и улыбаясь. Это было в минуты особо хорошего настроения, когда в течение дня я в десятый раз признавался ей в любви….
А волосы и без ее комплиментов были красивы. И как же им не быть таковыми, когда на протяжении всех пяти, вернее, последних трех лет, я ничем другим не занимался, кроме как перелистывая журнал «Мода», отыскивая в нем самые красивые мужские прически. А когда находил, становился перед зеркалом и сам себе говорил: «Эх, Джабраил, какой же ты все-таки парень! Да и девушку твою не в чем упрекнуть, только вот нос у нас с тобой чуточку кривой!» И это была правда: нос и сегодня такой же кривой, как и раньше.
Только у одного парня была прическа лучше, чем у меня, или мне так казалось. Тот парень шел двумя курсами старше, кажется, его звали Леча. Это был бесшабашный, гордый молодой человек, может, даже более бесшабашный, чем я сам. Кстати, у него и сегодня такая же прическа, как в те годы, только сейчас она слегка тронута сединой.
Я его часто вижу в телепередачах читающим свои стихи:
Где ты, где ты сейчас,
Некогда восхищавшаяся мной? (1)
«Ушли они, молодой человек, — говорю я в таких случаях, -все они, нахваливавшие наши с тобой волосы, ушли, чтобы теребить руками волосы других. Лучше отправляйся домой и посвяти стихи жене:
Как прекрасна, как хороша ты,
Что было бы со мной, если бы не ты!
И в благодарность она будет готовить тебе вкусные обеды, и ее не будет волновать, правду ли ты говоришь или лукавишь, как не волнует молния, сверкнувшая далеко в горах».
В тот день, когда я стоял, преисполненный гордости за самого себя, с дипломом в кармане, а мои волосы трепал ветер, нас на целых три года распределяли на работу.
Я не особо переживал по этому поводу, потому что директор нашей школы прислал на имя декана пространное письмо с просьбой направить меня в родное село.
Но меня немного тревожило то, что Малика остается в городе. Кругом было столько смазливых, как девушки, парней, почти наравне с кокетками пользовавшихся косметикой, слова этих «красавцев» слетали с кончика языка, и еще с детской колыбельки начиналась их будущая карьера.
Один из них жил со мной в комнате и по-настоящему меня злил, днем и ночью пользуясь пудрой и кремами и подолгу простаивая перед зеркалом, как будто это была его собственность. Из-за этой его привычки до меня редко доходила очередь, чтобы хоть мельком полюбоваться на свой «автопортрет».
Видели бы вы походку этого парня: он словно боялся уронить бокал. Какое-то бесполое существо. О его принадлежности к мужскому полу говорила только скудная растительность на лице. Иногда мне в голову приходила крамольная мысль: хо лось предложить ему повернуться спиной ко мне, а потом, надавав пинков и не позволив опомниться, загнать его в здание университета.
Но удивляло то, что это ничтожество всегда сопровождала стройная, ладная, как голубка, девушка. Прислушаешься порой! и слышишь от нее: «Ведь он так красив!»
А что он совсем не мужчина, по-моему, девушкам даже нравилось — вот такая вот пошла мода.
По правде сказать, им с таким было проще: захотят пригласят его, надоест — отправят восвояси. Он, как одна из принадлежностей женской сумочки: расческа, зеркальце или помада, которые у дамы всегда при себе. Если мужчина имеет честь, достоинство, совесть, то нынче он в общественной жизни приравненный к преступнику, он словно изгой, и взгляд на него бросают косой, как на волка, и глаза от него отводят, словно боясь; встретиться взглядом. Иногда, бывает, что и прозвищами его; одаривают, например, такими: Хутор, Колхоз или Старик.
Стоя в кругу друзей, я обратил внимание, что Малика направилась в мою сторону. Она шла своей обычной походкой, всегда заставлявшей мое сердце биться как-то особенно.
Мне трудно описать эту походку — не нахожу слов. Одно скажу: она была необыкновенно красива. А сейчас напомнила мне цыганку, которая, не в силах совладать со своей страстью, выплескивала ее в танце. Бывало, лежа на кровати в своей комнате в общежитии, я чутко прислушивался к шагам проходящих по длинному коридору девушек, пытаясь угадать среди прочих ее походку. Она редко приходила в общежитие, но иногда мне удавалось заметить ее, если, конечно, понаблюдать за происходящим в коридоре, немного приоткрыв дверь.
Я много раз спорил с друзьями на бутылку коньяка и всегда выигрывал пари, безошибочно угадывая походку Малики.
И улыбалась она так же заразительно, откидывая голову назад и обнажая все зубы разом…
— Джабраил, подойди, пожалуйста, — сказала Малика, остановившись неподалеку и сцепив руки: она любила «ломать» пальцы. У меня всегда дух захватывало, когда она с силой сжимала руки, выгибая пальцы с глухим, коротким хрустом.
— Что случилось? — спрашиваю я, подходя к ней вразвалочку: я был уверен, что она любит меня так же, как я ее. Оказывается, когда у тебя есть любимая, сердце всегда переполнено гордостью, словно у молодого, необъезженного жеребца.
— Знаешь… Лолиту… ее направили в какой-то хутор в Ножай-Юрте… Она плачет …
Мне так жаль ее… Если бы ты …Если бы ты поехал туда… а она — в ваше село …
Я все понял: Лолита — подруга Малики, а я ухаживаю за Маликой, поэтому я, соответственно, должен отправиться в Ножай-Юрт.
Я считал себя джентльменом и, конечно, согласился поехать туда, уступив свое место Лолите, хотя никогда не бывал в Но-жай-Юрте.
— Тебе там понравится, — сказала мне Малика, когда мы втроем вышли на улицу. — Там живет этот… ну, о котором ты так часто говоришь… Он написал: «Ты нежным взглядом красивых глаз ласкаешь…» — это его стихи, помнишь?
— Ты об Абузаре? — спрашиваю я. — Да, он там живет. И я не поменял бы его на твоих Челентано, Демиса, на джаз-рок, если бы на моих весах оказался бы он один против всех твоих кумиров!
— Ну, вот и хорошо… Ты ведь тоже мнишь себя Байроном, написав три стихотворения…
— Разве мне до этого? — говорю я, раскидывая руки. — Я же не могу быть и Байроном, и Д’Артаньяном, и Ромео в одном лице. Разве я не прав, Лолита?
— Конечно, прав…
— Выходит, я виновата…
— Вовсе не ты, а твоя мать! — говорю я.
— Перестань сейчас же, иначе я обижусь! — Малика рассмеялась, бросив на меня взгляд своих больших глаз.
— Давай уйдем вместе, — сказал я ей, всей душой желая остаться с ней наедине, чтобы не было рядом ни нашей группы, ни курса, ни университета в целом.
Я всегда так говорил, когда хотелось общаться с ней поде лгу, обсуждая пустые, ничего не значащие, совсем меня не интересующие, совершенно нереальные, запредельные темы.
— Лолита, мы пойдем… Ты ведь больше не будешь плакать. Ты довольна? Ведь так лучше, верно? — Малика задержалась, улыбаясь Лолите и часто-часто хлопая ресницами.
Когда Малика, склонив голову набок, произносила: «…ведь так лучше, верно?» — мое сердце трепетало, как птица в силках. При этом она нежно улыбалась, подняв иссиня-черные брови и сжигая мое сердце, сжавшееся в маленький комочек.
Она прекрасно осознавала свою необыкновенную красе в подобные минуты, знала, что она любима и что никто не сможет ее заменить.
Эти слова она произносила в минуты радости или когда едва задевала какая-то легкая печаль, пытаясь успокоить тебя подбодрить, при этом заставляя еще больше любить ее.
Эти слова потом долго жили со мной, посещая мои сны в виде изменчивой радуги, меняясь, кружась, еле слышные издалека.
Ее смех тоже доносился, словно издали, и в памяти оставались нежные, упругие губы и белоснежные зубы. Эти ее слова, рождавшиеся в неистовстве чувств, одно мучительнее другое уносили меня в небытие. Сам не знаю, как такое могло быть.
Мы ушли вместе.
Когда мы с Маликой шли по городу, мне весь мир казался сотворенным из необыкновенных красок, где перемешались зелено-синий или светло-бордовый цвета. Мне тогда казалось, что эти цвета созданы только для меня одного.
Глаза у Малики были небесно-голубыми. «Глаза косули!» — говорил я, когда видел их блеск.
— Ты почему-то молчишь… Сегодня как-то грустно, правда?.. — произнесла она. — Или ты сочиняешь стихи… Поэты долго не живут. Сколько прожил твой Байрон?
— Байрон? Он прожил тридцать шесть лет…
— Ой, чтобы прожить столько, тебе осталось еще тринадцать лет.
— Нет, всего четыре года, если сравнить с Лермонтовым, или два года, если сравнить с Китсом, — говорю я, словно мое творчество ничуть не ниже перечисленных авторов.
— А мне кажется, что твоя смерть еще далеко, — говорит Малика, — как невестке — смерть плохой свекрови, — она прикусывает губу, чтобы не рассмеяться.
— Нет! — говорю я. — Через шесть лет грудью вперед я брошусь вниз с высокого обрыва, оставив на маленьком клочке бумаги несколько предсмертных слов: «Я не хотел бы, чтобы недостойные люди сплетничали над моей дикой могилой». Тогда журналисты со всего света соберутся перед маленькими воротами нашего небольшого домика, стоящего посреди зеленой лужайки. Ты ни к кому не будешь выходить. А они, обвешанные фотоаппаратами и микрофонами, проведут много голодных ночей, расположившись на траве в нашем саду. На четвертый день на закате солнца в траурных одеждах издалека появишься ты. Медленно приблизишься к старой груше в нашем саду и сядешь на дубовую скамейку, устремив свой грустно-горделивый взор в сторону ярко-алого вечернего горизонта. К тебе обратятся с просьбой принять журналистов. Ты в знак согласия медленно опустишь глаза. Вскоре твои большие голубые глаза будут печально смотреть со страниц газет, журналов, с телеэкранов. В своем интервью ты скажешь: «Он очень любил жизнь, любил людей, но больше всех он любил меня…»
— Да не скажу я этого никогда! Ой, перестань… А я на самом деле иду и слушаю тебя… Прекрати!..
Я смеюсь. Я всегда смеялся, подтрунивая над ней, вводя в заблуждение. Иногда делал вид, что мы с ней расстаемся. Она по-настоящему обижалась, а я начинал смеяться.
Я часто доводил ее до слез. Мне нравилась картина, когда рядом со мной шла девушка, из ее широко раскрытых, больших голубых глаз время от времени падали крупные капли слез. И тогда душа моя начинала метаться, неистово рваться в безграничную даль.
Наблюдая эту картину, я приходил к мысли, что мы оба дул маем одинаково и стремимся к одному и тому же.
В эти минуты мне было мало одного воодушевления, одной планеты, одной любви!
Я жалел всех девушек, даже тех, кому я был безразличен. Мне почему-то казалось, что никто не способен понять их лучше меня. «Эта жизнь дана только для счастья, для одного счастья, — казалось мне, — человек заслуживает жалости, если не поймет этого. Как мало времени отпущено ему! Это ведь насмешка над ним, когда в коротком промежутке во время смены дня и ночи он обязан понять все. А как поступить с сердцем, с душой, с мыслями, с глазами?»
— Как мне поступить с моим сердцем? — спросил я у Малики.
— А? С сердцем… Надо вытащить и отпустить…
— Давай отпустим вместе! — сказал я.
— Не знаю даже… Надо у мамы спросить… — она рассмеялась.
«Ох, проклятье, проклятье! Как трудно с кокетливой девуця кой, трудно выносить ее игривость, трудно смотреть на нее!»
Иногда я откровенно играл. Уперев в бока руки, слегка деланно покашливая, я говорил: «Так, хьенех (2) ? Ты должна выйти за меня», — начинал я в шутку свататься к ней. А она, подыгрывая мне, опускала глаза и медленно водила носком по земле: «Не знаю, надо у мамы спросить». Затем мы звонко смеялись.
Люди смотрели вслед. А нам было все равно, да, в то время нас мало заботили окружающие, мало заботило богатство, деньги, вся планета и даже сама жизнь — все было связано с молодостью, вся жизнь была связана с ней.
— Малика, ну почему ты остаешься в этом городе? Брось его, уедем вместе в Ножай-Юрт, оставляя гору за горой, минуя один горный хребет за другим.
Вокруг меня горы,
Среди гор стою я.
Передайте любимому,
Чтоб забрал меня, —
как поется в этой прекрасной песне. Давай, совьем в этих горах свое гнездо, чтобы выращивать в нем птенцов! — сказал я, наблюдая за устремившимся к закату солнцем.
— О чем ты говоришь?! Папа с трудом договорился… Мне же в школе дали восемь часов! — она устремила брови вверх, словно говоря: «Это действительно так!»
— Да-а, — сказал я, — ты посмотри, она собирается трудиться!
— Конечно, собираюсь, — сказала она, кивая головой, — я тоже патриотка!
— На самом деле?! — сказал я.
— Да, — ответила она.
— Давай, я прочту тебе одно стихотворение, — предложил я тогда, неожиданно
разволновавшись.
— Прочти, — она посмотрела мне в глаза.
Я начал:
Мать до утра ругала дочь,
Мать до утра ее упрекала,
А на дворе плакали осенние дожди,
Кажется, и они не жалели ее.
Туман схоронил погасшие звезды
И одинокого уличного музыканта…
Как ничтожно то, что кажется людям,
Что кажется матери, что случилось в селе…
Как этого мало для большого сердца,
Впервые поверившего в счастье свое!
Для сердца, стремящегося наружу,
Готового вырвать из себя слезный крик,
Сил не имея более терпеть:
«Белый конь виноват во всем, мама!
Ведь ржет он всю ночь до утра!» (3)
— Это не ты написал?
— Нет, это написал другой, увидевший горящие огнем глаза юной девушки… Ей, наверное, было не больше семнадцати… Как тебе? Ты увидела, как она со слезами, с трудом сдерживая дыхание, потеряв сон и покой, забыв обо всем на свете, торопится к счастью… Ты услышала, как на рассвете среди росных трав ржут белые кони?
— Я ничего не заметила…
— Ты все это видела… Только забыла. Неужели не помнишь,как несколько лет назад, не в силах уснуть, ты плакала на рассвете, стоя у своего окна, как ты кусала губы, как дрожал твой подбородок? Неужели не помнишь, как в небе ржал белый конь? На нем не было ни уздечки, ни седла. Всадник, сидевший на том коне, издалека смотрел на тебя… А потом ты сладко уснула и видела прекрасные сны… Это был я… Это я пришел к тебе на помощь, когда тревожные мысли рождали в твоем воображении удивительные тени… Вспомни: ночь, луна, ржание белого коня… Так видела ли ты, как на рассвете, среди росных трав ржут белые кони, а?
— Не видела… Почему они ржут на рассвете?
Я промолчал. Мне было немного трудно. Да и как не быть если мне предстояло оставить девушку, в последние несколько лет полностью овладевшую моими мыслями, и уехать в какую-то Тмутаракань.
— Остановись, остановись и взгляни на меня! Почему мы должны расстаться? Когда в ближайшую ночь с воскресенья на понедельник под вашими окнами в нетерпении заржет скакун, мы, несомненно, будем там…
— Так просто? Не спросив у мамы?..
— Оставь маму, — говорю я, — мама живет с мужем…
— Джабраил, ты, наверное, шутишь…
— Какие шутки! Ведь мы когда-то должны прийти к этому, или я должен крутиться здесь в ожидании, пока ты станешь профессоршей?
— Ой, о чем ты говоришь, ты не представляешь, с каким трудом я стала членом
Комитета комсомола… Руслан так хлопотал… Мне же карьеру…
— Какая карьера? Какой Руслан? Это ты о том моднике с экфака, который, обесцветив несколько прядей на голове, ходит, кривляется, словно девчонка?!
— Ну, Джабраил, не говори так… Он хороший парень… Он… Он в одном доме со мной…
-Да ладно, оставим его, хорошего… плохого… Ты выйдешь или нет?
— Джабраил, так не бывает… безо всякой подготовки… без работы, без жилья…
— У нас много жилья на том зеленом хуторе, мама доит трех коров, отец держит с десяток овец, и во дворе у нас множество кур, среди которых важно расхаживает петух с красным гребешком…
— Ну, это царское богатство, а мы-то люди скромные, — попыталась она перевести разговор в шутку. — Нам-то понадобится всего лишь какая-то квартирка, «Волга», что-то вроде дачи и зарплата в каких-то шестьсот рублей.
— Ты еще и пенсию добавь… персональную!
— Джабраил, сегодня мы не будем руг… мы же рас… расстаемся… вернее, как бы сказать… давай попозже поговорим об этом, ты сначала поезжай… в этот…
Ножай-Юрт. Сейчас… сейчас мне как-то тяжело тебе что-то говорить… Мы же, как одна семья, как брат с сестрой, жили…
— Вот о семье я и говорю, о семье, которую мы должны создать…
— Давай сейчас куда-нибудь уйдем… Мороженое… Давай присядем где-нибудь, — взмолилась она, старательно отводя глаза.
Во всем Грозном мы не нашли места, чтобы посидеть наедине: куда бы мы ни пошли, везде были люди, неторопливо попивающие пиво и галдящие, словно на базаре. Мы долго бродили по улицам города, отыскивая узкие тенистые улочки.
— Ладно! Ничего не выйдет! — сказал я, когда она вдруг заторопилась домой. — Пока я не передам тебе в руки корзину, полную роз.
— Не покупай две, как в прошлый раз, — она с издевкой по смотрела мне в глаза, — или одну купи, или три…
— Я могу купить тридцать три, — сказал я, — или триста шестьсот тринадцать!
Корзину цветов я не нашел, но цветы в продаже были. Ей понравились черные розы.
— Двадцать три, — сказал я, опуская руку в карман и нащупывая деньги. У меня возникли сомнения…
Я принял завернутую в целлофан охапку цветов, вручил их Малике, и тотчас, отвернувшись, снял с пальца золотую печатку. «Тсс-с! — произнес я, делая знак цветочнице, и вполголоса: — К утру, завтра». Она меня поняла.
— Спасибо, милок, — крикнула нам вслед, — дай Бог вам счастья!
— Эх, теперь я не могу уйти, не вручив пожелавшей тебе счастья хотя бы один цветок.
Я вытащил из ведра цветочницы еще одну розу и сказал:
— Это вам.
С этими словами я быстро всучил ей червонец и отошел.
— Ой, что вы… ну, ну, будьте счастливы. Дай Бог вам всего…
— И вам тоже, мать! Ну, как вам невеста? — спросил я, взглянув на Малику.
— Мне… Мне люба, парень, — покраснела женщина.
— Мед бы вашими устами, мать, мед бы! — помахал я рукой женщине, стоявшей в растерянности, словно в воспоминаниях.
— Там, где ты появляешься, всегда… всегда ты поднимаешь шум… если рядом окажется кто-то из моих близких…
— Более близкий, чем ты мне?
— Прекрати сейчас же…
***
Я сразу отправился домой, даже не стал забирать утром свой перстень: оставил его на счастье, как сказала та женщина с цветами, на наше будущее счастье…
До моего отъезда в Ножай-Юрт мы с Маликой виделись еще дважды. Во время второй нашей встречи ее с балкона окликнула мать и велела идти домой. Мне кажется, будущая теща была не очень довольна своим сельским зятем.
Да и я не обременял себя любовью к ней, кассирше аэрофлота, берущей у пассажиров копеечные взятки за билеты.
***
Когда с сумкой через плечо я остановился перед зданием районе Ножай-Юрта, я увидел разбитного мужчину, сидящего за рулем трехколесного мотоцикла.
— Ты случайно не Эскиев? — крикнул он мне издалека.
Когда понял, что это я, широко жестикулируя, проговорил:
— Целую неделю я тебя здесь жду, ежедневно по двадцать километров езжу туда и обратно… Давай, иди скорей, расписывайся в своих бумагах, и уедем отсюда, пока хозмаг не закрыли.
Чиркнув спичкой, закурил сигарету, газанув на месте, рванул мотоцикл в сторону магазина, купил в ларьке у хозмага бочонок керосина. Оказывается, в селе не было света — какой-то тракторист наехал на электрической столб.
Эту ночь я провел у Сайпуддина — так звали моего нового знакомого, он же был директором школы, в которой мне предстояло работать.
Когда после трехчасовых тщетных уговоров выпить с ним водки, мне, наконец, удалось заснуть, я снова оказался в университетском корпусе сидящим рядом с Маликой.
Утром я был очень удивлен, поняв, что нахожусь у чужих людей.
Школа, где мне предстояло работать, была восьмилетней, она была ограждена деревянным забором. Само село было очень красивое, располагалось оно посреди леса.
В селе было, примерно, около ста домов.
Сайпуддин определил меня в дом к одной старушке, предварительно договорившись о ежемесячной плате в пятьдесят рублей.
Вместе со старушкой жила девочка-подросток, ее внучка, как потом я узнал, дочка ее дочери — у старушки не было сына.
В доме были две небольшие комнатушки и коридор. Из коридора дверь вела в комнату старушки, а из нее — уже в мою комнату. Одним словом, условия были незавидные: если один раз войдешь к себе в комнату, больше оттуда и не высовывайся.
Печка была одна, и она располагалась в комнате хозяйки. Моя комната обогревалась той же печкой.
Когда утром я отправился на работу, мне показалось, что все люди смотрят только на меня.
— Добрый день! — здоровались, останавливаясь и уступая мне дорогу.
Люди здесь были очень отзывчивые. Они были лишены всяких городских штучек, все в них было искренне и открыто. Жили они по своим, сохранившимся от дедов традициям, например, у родника каждый вечер собирались девушки. Там было несколько девушек, на которых можно было обратить внимание. К ним приезжали молодые люди на двухколесных мотоциклах. Мотоциклы были по-особому украшены: рисунки разных цветов, совершенно немыслимые украшения в виде фонарей и разных безделушек. Большинство парней носили фуражки особого покроя, иногда можно было встретить молодого человека в шляпе.
Они обычно собирались у родника, и парень, сидя на мотоцикле, упирался ногами в землю, а в зубах неизменно держа сигарету.
Каждый, кто проходил мимо такой парочки, обязательно произносил: «Да будет между вами согласие!»
Парень приподнимался: «Пусть Всевышний будет доволен тобой!» — и чуть смущенно улыбался.
Молодые люди некоторое время очень недружелюбно косились в мою сторону, словно я специально приехал сюда из-за девушек и могу составить им конкуренцию. Им не нравились мои волосы, которые почему-то все замечали: длинные, доходившие мне до плеч. Но, наконец, успокоились, пытались завести со мной дружбу, рассказывали о своих чувствах, бывало, вызывались выступить в качестве сватов, предлагая познакомить с той или иной девушкой.
А один парень по-настоящему надоел мне, почти каждый день появляясь в школе.
— Вызови, пожалуйста, девушку, — говорил он, — скажи, что Салман пришел, она сама поймет.
Но девушка не выходила. Когда он пришел в очередной, третий раз, я решил побеседовать с ним. Помню, я тогда сказал ему: «Я тебя очень хорошо понимаю,
Салман, но ты как-то должен решить эту проблему: или дай ей учиться, или, отлучив от школы, женись».
А потом мне досталось и от этой девчонки, когда она, уткнувшись в парту, пылая ярким румянцем, прятала от меня взгляд.
Но с ней я быстро разобрался: в журнале каждый день появлялись двойки, а потом написал ее матери записку, что ее дочь не учится.
— Кулсам, ты готова отвечать? — спрашивал я.
Она молчала. Встав из-за парты, прикусив губу, девчонка молча водила из стороны в сторону своими большими глазами, пылая румянцем. Кстати, девчонка она была неглупая.
— Садись, я ставлю тебе двойку.
Тогда она плакала, устремив широко открытые глаза куда-то в сторону.
По возрасту она была самая старшая в классе. Соответственно, и внешне выглядела, как взрослая девушка.
К счастью, она, наконец, пришла в себя и плакать больше не плакала, хотя по-прежнему отказывалась учиться — таким образом она мне мстила.